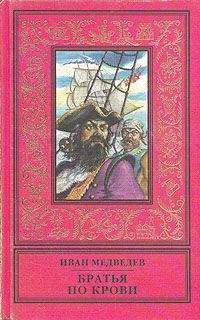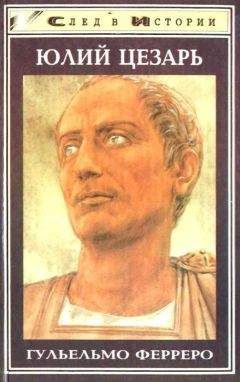Геннадий Гусаченко - Покаяние
За столь тяжкое преступление полагалась высшая мера наказания, но судьи учли состояние аффекта и дали Мишке пятнадцать лет.
А в тот вечер мы с другом сидели в «Ромашке», выпивали за Мишку, так кстати выручившего нас, и танцевали с двумя обаятельными женщинами.
Потом продолжили вечер в квартире одной из них, оказавшейся врачом–терапевтом.
В шифоньере зеленел майорский мундир с медалями.
Ночью меня кусали клопы, и пальцы любвеобильной офицерской жены ощупывали меня всего.
— Вот эта жилка — предстательная железа, — комментировала она свои познания в медицине.
Её подруга — недавняя выпускница медучилища, уроки анатомии преподносила Виктору.
Уже в каюте китобазы Виктор, вспоминая перипетии прошедшего вечера, согнул руку в локте, и улыбаясь, больше констатировал, чем спросил:
— В стране отцов я был не из последних молодцов… Как считаешь, дружище?
Помнишь ли ты сейчас, господин транспортный прокурор, о наших бедах–победах теперь уже далёких семидесятых лет?
(Здесь из рукописи вырваны листы. Прим. Ред).
…Ветер свистит на пустом берегу…
Шумят, бегут торопливо волны. Подобно им, незаметно промчались годы, и вот мне уже перевалило за шестьдесят пять. Разом очнувшись от бытия, подобного кошмарному сновидению, навсегда расстаюсь с домом своим, с родными и близкими, с грешной жизнью, полной пагубных страстей и неуёмных желаний. Здесь, на голом берегу моря, каждое утро хожу в тундру, собираю хрупкие, побитые морозным инеем еловые ветки и подношу Создателю мира и его Спасителю.
Судьбоносная шапка
В ту зиму мне дали отпуск. Ранним ноябрьским утром я вылетел самолётом из Владивостока, после обеда был в Новосибирске и вечером того дня вышел из электрички на перрон тогучинского вокзала. Дул холодный ветер, срывая с головы немецкую шляпу. Снежная крупа сыпалась за поднятый воротник модного пальто, сшитого в стиле «редингот» лучшим портным Вдадивостока Леонидом Владимировичем. Шикарный чёрный костюм, белая сорочка с позолоченными запонками, японский галстук с блёстками, изящные туфли, кожаные перчатки и лакированный чемодан — так выглядел джентльмен, подошедший к воротам родительского дома номер 38 на улице Красноармейской.
Мать кинулась на шею, повзрослевшие сёстры окружили с радостными визгами. Лишь младшая Людка — ей тогда было всего девять лет — застенчиво сторонилась незнакомого дяди.
— Здорово, Василий, — обнял меня отец. — Молодец! В Новосибирской высшей партшколе учишься… Секретарём крайкома будешь, а то и в ЦК назначат…
Мать руками всплеснула:
— Да Бог с тобой! Какой Василий? Это наш Гена с Востока приехал…
Отец как–то странно взглянул на меня и быстро вышел в сени.
— Мам, куда это он? — растерянно спросил я.
— Плачет… Сына родного не узнал. Ты ж дома пять лет не был. С Васей Рогило, с моим племянником спутал. Он должен приехать на днях к нам в гости, вот отец и принял тебя за него.
На праздничной вечеринке по случаю моего приезда собрались соседи.
Родители переехали на жительство из Боровлянки в Тогучин, и потому пришедших людей, кроме тётки Поли и двоюродного брата Петьки Цыганкова, я видел впервые.
Шофёр–молдаванин Иван Мокон с миловидной женой Дашей: и он, и она — детдомовцы.
Монтажник–высоковольтник Виктор Непеин с женой–немкой Розой и сыном Сергеем.
Работники птицефабрики Иван и Зоя Фефеловы. Тракторист Николай и медсестра Мария Каменевы и сын их Сашка — прапорщик в зоне.
Пенсионеры Михаил и Таисья Завьяловы с сыном Виктором — шофёром автобуса.
Пенсионеры Крошкины — Иван, участник Великой отечественной войны, кавалер ордена Славы и его жена Татьяна.
Недавно освободившийся из мест заключения Алексей Чулымов.
Плотник Егор Ельчин.
По–соседски они оказывали отцу бескорыстную помощь по хозяйству. Крепкий и сильный Иван Мокон приходил по осени с большим ножом, помогал забить свинью. Витя Непеин ремонтировал летний водопровод. Его сын Сергей отгонял корову в стадо. Маша Каменева, когда мать болела, доила корову, давала корм животным и курам. Фефеловы по весне снабжали цыплятами. Алексей Чулымов колол дрова, таскал уголь. Егор Ельчин помогал по плотницкой части. Дружной семьёй жила улица Красноармейская.
Гости громко выражали отцу и матери хвалебные отзывы о их сыне. Обо мне, то есть. Захмелевший отец, горделиво принимал поздравления, выражая переполнявшие его чувства привычным мне с детства образом:
— Генка! Ети–твою в жерди мать! Мы свою фамилию не опозорим! Мне командир полка орден Красной Звезды вручал и сказал: «Это же Гусаченко!».
И кулаком по столу: бах!
Мать, не скрывая слёз радости, бегала в кухню и обратно, выставляя угощения на цветастые скатерти.
Никого из тех гостей сейчас уже нет в живых.
Ивана Фефелова задавила машина.
У Ивана Мокона конкуренты тяжело ранили сына — начинающего мелкого предпринимателя. Сердце Ивана не выдержало горя, был мужик и нет его.
Алкоголь свёл в могилу отца и сына Непеиных. Умирающему мужу Роза купила на похороны ботинки, попросила примерить. Он надел, снял. Жмут ботинки.
— Тебе не всё равно будет, когда помрёшь? — успокоила его Роза.
Туберкулёз лишил жизни двоюродного брата Петьку. В психбольнице нашла свой конец его мать, горячо меня любившая тётка Поля.
Ножницами ударом в горло убила сожительница спящего в пьяном беспамятстве Алексея Чулымова. Захлёбываясь кровью, он на минуту пришёл в себя, попросил пить. Злодейка подала ему заранее приготовленный стакан с серной кислотой. Тот глотнул и дух испустил.
Отравился денатуратом сын Каменевых прапорщик Сашка, а вслед за ним ушли на тот свет его безутешные родители Николай и Мария.
Во время разгула в стране ельцинского беспредела не вынес голодухи безработный Ельчин, повесился в сарае.
Умерли соседи Завьяловы. Их сын Виктор узнал, что болен неизлечимой болезнью и застрелился.
Умерла Зоя Фефелова. Вслед за ней сгорела от водки её дочь Людмила.
Умерли Крошкины.
Состарились, умерли мои родители.
А в тот вечер звякали тарелки и рюмки на столах от перестука ног пляшущих гостей. В табачном дыму качались красные лица нестройного хора. Пели: «Хасбулат удалой, бедна сакля твоя…», «По Дону гуляет казак молодой», «Виновата ли я, что люблю?», «Ой, рябина кудрявая, белые цветы…», «На позицию девушка провожала бойца», «Ой, цветёт калина в поле у ручья…».
Витя Непеин брал веник, заменявший гитару, и пел:
С конца поля в конец всё гоняла овец
Чернобровая Катя–пастушка,
И понравился ей укротитель зверей
Чернобровый красавец Андрюшка…
Кто–то притащил гармонь, вложил мне в руки. Я столько лет не играл, но пальцы послушно забегали по клавишам, немного запинаясь, но скоро нашли нужные пуговки и уверенно взяли аккорды «Цыганочки» — любимой пляски моей матери. Это, конечно, она послала за гармонью, чтобы сын сыграл для матери. И я постарался. Она исполняла пляску по всем правилам цыганского танца: с медленным выходом, с прихлопами, с платочком в поднятой правой руке, а левой, упершись в бок, всё убыстряя темп, выбивала дробь каблуками темпераментно и красиво. Никогда — ни до, ни после — не играл я так самозабвенно и задорно, как в тот тогучинский вечер.