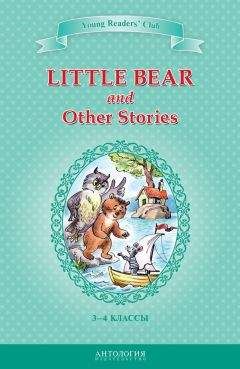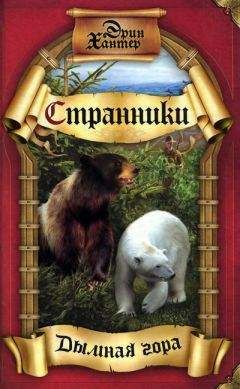Людвик Ашкенази - Брут
— Оставь меня, — сказала она Бруту, когда тот защекотал ее влажным носом под поднятым хвостом. — Оставь меня! Уходи. За своей лучше бегай!
Ее крепкие ноги дрожали мелкой дрожью от необъяснимого предчувствия, которое иногда бывает у самок; а сердце сжимала ревнивая грусть.
Наконец подошел поезд, и все было, как всегда. Вот только Эмиля уже не звали, но зато Миетека; а голова болела у дочери другого доктора. Голубые глаза близорукого паровоза светились во тьме слабо и интимно. Плакали внезапно разбуженные дети, и кто-то все время кричал снова и снова:
— Мыло там дают или взять свое?
А потом они пошли в ночь, собаки и люди, под холодным звездным небом; тихо шумели ели вдоль лесной дороги. И лай достигал окрестных деревень, пробуждая дворняг и вселяя в них ужас. Потому что деревенская шавка тоже понимает по-собачьи, хоть сама и тявкает на жаргоне.
— Los! И: — Los! И еще: — Los![8]
Бруту и голубому доберману поручили тех, которые отставали. Это было занимательно, псы всласть отводили на них душу. Ни разу не случалось, чтобы тот, кого они подходили обнюхать, не встал; разве только уже был мертвый. Ну, а если кто мертвым только притворялся, достаточно было куснуть его за икру, как у него сразу же вновь появлялась охота жить.
— Возьми на себя вон того под елью, — будучи старше рангом, пролаял голубому доберману Брут. — А я обожду ту тень, что плетется сзади. Пусть она войдет в лунный свет на повороте дороги.
Доберман послушно отправился выполнять приказание, и тот, под елкой, вскочил на ноги и побежал за колонной.
Тень двигалась медленно, пошатываясь, то исчезая в кювете, то далеко вытягиваясь по склону.
Но дрессированный человекодушитель Брут хорошо знал, что теряются только тени, человек же потеряться не может. В нем поднималась страшная злоба за эту медлительность, и за эту слабость, и за этот смрад. Он тихо заскулил, напружинившимися ногами разгреб подмерзший снег, чтобы лучше прыгнуть. Потом со страшным лаем рванулся вперед и, когда почувствовал ненавистный запах, сшиб человека с ног. И на мгновение застыл над ним, дыша горячо и с вожделением, исполненный непередаваемого блаженства, которое дает власть. Затем вонзил зубы в человеческое бедро и почувствовал соленую людскую кровь, вкус которой уже знал раньше. И в отличие от своих хозяев, ему было известно, что кровь хефтлинга из Салоник и из Парижа, с пражского Жижкова и из Магдебурга — одинакова на вкус.
Человек слился со своей тенью, и из них получился один клубок, черный и скорбный. Комок страданий.
«А ну-ка, я его обнюхаю, — сказал себе Брут. — И буду его долго обнюхивать. Раздеру фуфайку и дам ему еще раз почувствовать свои зубы. А лаять буду совсем немного, у меня пересохло в горле. И уже замерзают лужи».
И тут внезапно и резко, как горный источник, вырывающийся из-под скалы, его овеял другой, забытый запах лежащей фигуры. И сила этой струи потащила его за собой, как вода в половодье, от которой нет спасения, и затопила его всеми ароматами и запахами не только той жизни, которой он жил теперь, но и жизней уже минувших, прожитых в действительности и порожденных фантазией у костра. Ему почудилось, будто именно в это мгновение он подошел к людскому жилищу из закопченных бревен — а может, это была пещера — и у того, что позвал его, был низкий гортанный голос, и от него вонюче несло козлом и рыбой. Он дотронулся до него ладонью, и Брут не укусил ее.
Потом ему показалось, что он еще щенок, слепой и беззащитный, и он почувствовал вкус материнского соска. И влагу своей матери.
А затем он почувствовал себя так, словно поднимался по лестнице в доме, в котором было много этажей, и в одном пахло кипяченым молоком, а другой был весь во власти тончайшей пыли, что садится на книги, а третий излучал аромат сиреневого мыла, сладкого пота и овечьей шерсти, из которой люди ткут себе ткани. Этот запах был как шерсть Ливии, матери Брута, стерегшей в молодости овец в Калабрии.
Так он понял, что случилось и кто лежит перед ним.
«Это Хрупкая, — подумал Брут, — но это и фуфайка… Эти запахи не должны быть вместе!»
И он стал ждать, когда раздастся голос, который дополнит запах. Но женщина в омуте лунного света лежала не шевелясь, с молочно-белым лицом, с веками, опущенными, точно жалюзи, с волосами, остриженными так коротко, что они не сливались со снегом.
Это был человек, который лишился чувств или спал. Лишь из уст, просвечиваемое бледным светом, выходило маленькое облачко пара, словно фигурка из тумана, которая вот-вот отправится в путь.
«Посижу возле нее, — сказал себе Брут, — и не двинусь с места. Из нее выходит пар, и этот пар теплый. Вдохну его и попробую еще раз, какой он на вкус».
Лай своры терялся вдали. На лесной тропинке три раза подряд пролаял голубой доберман, который давал о себе знать и ждал новых приказаний. Но Брут не ответил.
Люди уже подошли к полосатой караульной будке; на ней развевался флаг с красным крестом. Здесь остались старцы и дети — их было немного — и, получив вежливое приглашение, входили один за другим в большую светлую приемную, где уже сидели двое старцев или двое детей, или старец и ребенок; они сидели на диванах из розового плюша или в глубоких удобных креслах под картинами в золоченых рамах и под люстрой из чешского хрусталя, и смотрели на обитые белым двери, которые вели дальше. За дверью была яма и человек с револьвером, стрелявший в затылок каждому, кого из приемной приглашали «на осмотр» в кабинет.
А в другой приемной, немного напоминавшей цирюльню, в это время стригли под машинку тех, у кого еще оставались волосы. Это было приглашение в газовую камеру. Они входили в нее с поднятыми руками; не потому, что сдавались, а чтобы вошло как можно больше. Они умирали стриженными, но неумытыми.
И свора лаяла им реквием.
Только Брута не было с ними. Он сидел подле нее и дрожал, весь волко-серый, промерзший под длинной псовиной.
«Мне бы корзинку, — подумал он, — и надо бы сходить за булочками и за сигаретами. И за красной свеклой. Но корзинки я тут нигде не видел и, бог свидетель, я не видел и булочек. А потом: светит луна, и за булочками еще рано».
И посмотрел вверх, поднял острый нос и вздохнул, как умеют вздыхать только собаки, которые не знают, куда идти и за кем.
В эту минуту Хрупкая раскрыла глаза, смертельно уставшие, и увидела над собой голодного волка. Увидела жуткую морду и два светящихся, алчных, зеленоватых, хищных огня. Тогда она попросила свое сердце остановиться, и ее просьба была исполнена.
Испокон века собаки воют на луну, и для этого им не нужно никакой причины. Финская сучка услышала протяжный вой; некоторое время она слушала его с торчащими ушами, а потом уселась своим плотным задом на замерзший снег и завыла тоже.