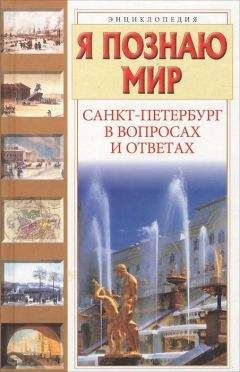Борис Казанов - Роман о себе
Так где же мне посидеть, идя по тропке, которую пробегал по утрам? Где тут остановиться? Может, за тем полем, зазеленевшем озимой рожью? Там есть, уже выплывает макушкой, одинокая сосна с гнездом белок. Я ее называл про себя «немецкой сосной», хотя она принадлежит вольному переводу с немецкого Михаила Юрьевича Лермонтова. Но что там сидеть не в своем образе? Неужели так вот, постепенно, пойдет, захватывая, эта болезнь, эта гангрена в душе, и начнет все отмирать? Как отмерла пойма Сожа, которая недавно сверкала для меня в парафразах стихов Шкляры? Пора вбить в эту рыбалку осиновый кол! Что еще пропустил, о чем не досказал?
Остался всего один абзац…
Конечно же, я не понимал тогда, отчего так рвался в Могилев, хотя мог провести время с егерями. Ведь о них писал свои очерки, создал знаменитый фильм «Охота со старой собакой». Или не нашли бы мне место, где б сидел и ловил, сколько душе угодно? Но разве я приезжал из-за рыбалки? Привыкший доверять в море разным предчувствиям, я рвался к Шкляре. Вот и приехал, и мы прогулялись по городу. Вечер уже был отдан Кире Михайловне. Собирались туда пойти, посидев, как обычно, наедине. Я любил бывать у Шкляры в Буденновском переулке с огромным тополем под окном. Когда тополь срубили, Шкляра был так потрясен, что сложил в его честь поэму. Бывало, ночевал у него, слыша, как напротив, в кинотеатре «Родина», до поздней ночи идет пальба и гремят взрывы. С почтением относился к его родителям: очень привлекательной матери, ходившей растрепанной, в чистенькой кофточке. Однажды Ксения Александровна наведала Наталью в могилевской больнице, где родился Олежка. Наталья вспоминала, как о празднике. Я в море, кто ее навестит? И вдруг пришла Ксения Александровна. Я знал их, интеллигентов по крови, Ксению Александровну, без памяти любившую своего Игорька, сносившую от него немало, но и поминаемую бесконечно в стихах; и молчаливого, вспыльчивого отца, Ивана Ивановича, не ладившего с сыном. Перед этим освободилась еще одна комната, где много лет жила на подселении старая дева, замазавшая себя сотрудничеством с немцами. Дикая тварь, вечные скандалы, и вот убралась. Теперь у Шкляры своя комната с висящими на стене боксёрскими перчатками. Можно уже укрыться, и я, войдя с ним, готовился поверить, что все эти подковырки на рыбалке: насчет перекусывания лески и завязывания крючков морским узлом, и его стойкое молчание, оказавшееся подслеживанием, - при том пастухе, кому они, внимая, налили водки и ухи; и то, что уехали, насмехательски помахав мне, идущему по лесной дороге: да разве б я уехал так, оставив друга на дороге! - все это такое, что не стоит и разъяснять; ведь и Шкляра может вспомнить, когда я оказался слаб! Надо научиться прощать один другому.
Уселись, закурили. Шкляра сообщил, что пишет повесть. Это будет его дебют в прозе. Полностью повесть не готова, чтоб показать. Может прочесть один абзац. Написан в прошедшем времени, поскольку он думал, что я уже уехал. Вот этот абзац: «Приезжал Боря, боксер, матрос. Радости не принес и грусти не оставил». Далее Шкляра излагал свое удивление: на Соже он выглядит выносливей Бори, матроса и боксера. Объяснил так: он у себя дома. Это его река, его лес… Можно не усмотреть в этом абзаце ничего такого. Не усмотрел же, к примеру, Володя Машков? Вот и я сам - уже изложил! А как я тогда, дурак, воспринял? Я воспринял в контексте всей этой рыбалки и понял, что Шкляра сегодня отпраздновал надо мной победу. Одолел меня, как некий мифический Антей, сроднённый со своей рекой и со своим лесом: Но разве я не родился в этих местах? Разве ты не тащил меня «домой»? И если даже все это «твоё», то где же твоё гостеприимство? Ведь в тех местах, где встречал тебя я, ты был никакой не Антей. А я тебя принял со всей душой и не выставлял себя, что я Нептун или Борей: Я сидел, оглушенный, ничего не соображал… ну, написал - ладно. Зачем звать к себе в дом, читать?… Шкляра, отложив рукопись, предложил спокойно: «Хочешь, подеремся?» Вот бы и дать ему по морде! Раз сам предложил: Я же сидел и ощущал, как рушатся все подпорки и валятся вниз, превращаясь в прах, годы, что я был с ним, - от этой горстки слов, которые я не смогу ни переиначить, ни простить за любую цену. «Не хочешь, драться? Тогда пошли к Кире Михайловне». И все закончилось вечером у Киры Михайловны.
Я понял сегодня, прочитав ему «Москальво»: время бокса, отмщений, всяких выяснений из-за пустяков, - такое время прошло. Сейчас с ним можно разговаривать только так: кто лучше написал, тот и доказал!…
Я докажу Шкляре, как мне ни тяжело придется и как он ни окажется прозорлив, угадав эпоху и под нее себя подогнав; докажу ему - и в том и его заслуга! - что он поспешил торжествовать надо мной, как над Толиком Йофой! Я заставлю его только унижаться: клеветать, плакать у Машкова, что я его предал, и благодарить Жданова за мою книгу. Упомяну его публично только один раз. Создан телевизионный художественный фильм, который будут повторять из года в год. Там Шкляра - молодой герой своих стихов. Этим отдам ему долг, рассчитаюсь фильмом, как деньгами с Володей Машковым. Кире Михайловне я так и не поставил ящик шампанского. Считаю, мы в расчете за Константина Георгиевича Паустовского.
Мне не понадобится Шкляра ни в Союзе писателей БССР, ни в «Советском писателе». Зачем мне Шкляра, если в Москве моим другом станет сам директор издательства - Николай Васильевич Лесючевский? Вот колоритный штришок - Жданов подтвердит.
Пьяный, я стою в очереди к Лесючевскому. Длинная очередь из грандиозных московских литераторов. Все эти литераторы, всемирно прославившие свои имена, были для Лесючевского жалкими попрошайками, вымаливающими подаяние перед дверью его кабинета. Мне тяжело было среди них стоять. Уже постоял, раскачиваясь, на площадке этого громадного здания в Большом Гнездиковском переулке, на той площадке, с которой, кажется, упал герой Булгакова. А еще раньше я уснул в кресле ЦДЛовского парикмахера. Такое редко случалось, чтоб я так напивался. Подействовал, должно быть, трудный перелет из порта Ванино… Я упоминал! Тогда загорелся при взлете самолет. Еще эта любовь, любовь к девочке! Даже не знаю, сколько ей было, Туе, лет. Не мог не остаться на Хуту, в той черной протоке, где я держался за ветку, а на меня уже смотрели, как на мертвого… Мне еще оставалось сегодня попасть под машину. Не подозревая о машине, я стоял в очереди к Лесючевскому, не предупредив Игоря Жданова, который меня искал. Тут появился Лесючевский с какого-то заседания ЦК. Лысый, с острыми бровями, он тотчас углядел меня среди грандиозных и кивнул, чтоб к нему зашел. Такой, собственно, пьяный, каким был, я вошел к Николаю Васильевичу в кабинет. Директор издательства, по-видимому, не заметил моего состояния… Я вообще удивляюсь! Целый день я слонялся по коридорам «Советского писателя» вдрызг пьяный, и все со мной разговаривали, как с трезвым. Даже завредакцией русской прозы Валентина Михайловна Вилкова, которая, встречая меня трезвого, говорила безапеляционно: «Боря, от тебя пахнет водкой», - на этот раз не учуяла ничего.