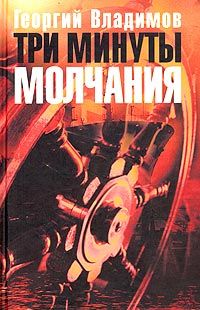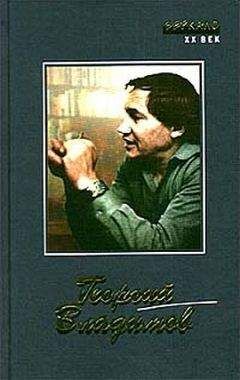Георгий Владимов - Три минуты молчания
— Алексеич, — позвал «дед» сверху. — Поди ко мне. По трапу нам смена спускалась — дрифтер с бондарем и Митрохин.
"Дед" меня вытащил за руку и наклонился над шахтой:
— Шепилов! Ты там, что ли, мерцаешь? «Мотыль» Юрочка выплыл из пара, как из облака.
— Давай-ка подкинь оборотиков.
— Сергей Андреич, опять перекалим движок.
— Ничего не поделаешь, — сказал «дед». — Теперь уж давай на износ.
"Дед" пошел наверх, на крыло рубки. Я за ним.
— Зачем звал, «дед»?
— К шотландцу подходим. Стыкнуться надо.
— Это как?
— Вот вместе и подумаем.
Всю дорогу — когда поднимали парус и когда тащили помпу и качали, — все это время я думал: как же мы с ним стыкнемся? На такой волне подойти смерть. Ну, а на что мы еще шли? Вот уж действительно — все мы рехнулись.
Мы вышли на крыло. Иллюминатор в радиорубке светился. Я припал к нему «маркони» сидел за столом, упершись локтями, в ладонях зажал голову с наушниками. Губы у него шевелились, как у припадочного. Кеп расхаживал мимо двери, заложив руки за спину. Вошел, что-то сказал «маркони». Старенький он стал, наш кеп, весь сгорбился. Снял шапку и вытер лысину платком.
— Где ты там? — спросил «дед».
Он полез выше, на ростры. Там ветер с ног валил. И ни зги не видно. «Дед» светил фонарем — на полметра, не больше.
— Что ты ему сказал? — спросил я «деда».
— Кому?
— Кепу. Почему он вдруг повернул?
— Так, ничего особенного. Сказал: с тобой в «Арктике» за столик никто не сядет.
Смешно мне стало — чем можно человека напугать, чтоб он все другие страхи забыл.
— Ты не смейся над ним, — сказал «дед». — Он еще за твои подвиги ответит. Тебя-то легче выручить… Где он тут его держит?
— Чего?
— Да линемет.
"Дед" стоял над боцманским ящиком, светил туда, шарил среди штертов, гачков, талрепов, чекилей.
— Вот он. — Вытащил линемет с самого дна. — Смотри-ка, и пиропатронов комплект. Ну, боцман!
— Леерное сообщение будем налаживать?
— Попробуем. Только гильзы к чертям просырели, мнутся.
— Крышка была открыта?
— Была. Ох, найти бы, кто… Ладно. Все глупостей наделали. А я первый. Ну что — пальнем один, для смеха?
"Дед" заложил патрон, выставил линемет в корму и нажал на спуск. Только курок щелкнул.
— Осрамимся, — сказал «дед». — Осрамимся перед иностранцами.
— Может, подсушим?
— Это надолго. Это — не подмочить; там, поди, и пяти минут хватило.
— Больше. Он, знаешь, сколько стоял открытый? Как шлюпку вываливали.
Я теперь точно знал, кто ящик не закрыл. Димка, кто же еще? Когда сплеснивал фалинь. Ну, черт с ним, все глупостей наделали.
— Придется руками, — сказал «дед».
— А добросим?
— Я — нет. Ты добросишь. Ты молодой, зоркий.
Мы вытащили бухту манильского троса, скойлали ее на две вольными шлагами, к середине я пиратским узлом привязал блок и бросательный конец тоже из манилы, но тоненький, с грузиком.
— Отдохни, — сказал «дед».
Я сел прямо на палубу, спиной к ящику, а грузик держал в руке. Тут я опять вспомнил про свое плечо. На помпе я еще натрудил его, а как же бросать теперь: ведь оно у меня правое. Может, сказать «деду», тут ничего стыдного. И вдруг я услышал шотландца. Мы ему погудели, и вот он откликнулся слабеньким гудком.
"Дед" отвел капюшон, приставил к уху ладонь. Значит, и он слышал, не померещилось мне.
— Ну, здрасьте, — сказал «дед». — Вот и мы.
Загудело откуда-то сбоку. Едва мы не проскочили.
— Парус! — закричал «дед». — Парус зарифили?
С палубы кто-то ответил:
— Убрали уже, сами не глухие.
"Дед" кинулся на верхний мостик, к переговорной трубе:
— Справа по курсу — судно. Питание на прожектора! Он сам взялся за прожектор, направил его, и я увидел — сквозь брызги, сквозь заряд — зыбкую тень на волне.
— Видишь его, Николаич? — спросил «дед».
Пароход весь содрогнулся от реверса. Медленно-медленно мы подваливали к шотландцу.
Теперь уже ясно было видно — он к нам стоял кормой. Ох, если бы стоял! А то ведь взлетал выше нас, к небу, а после проваливался к чертям в преисподнюю.
— Ближе не можешь? — кричал «дед». — Ну-ну, Николаич, и за это спасибо.
Там в корме показались люди — в черных роканах с белой опушкой. Я еще отдыхал пока, с грузиком в руке, прислонясь плечом к ящику. А наши уже там высыпали, сгрудились по правому борту.
— На "Пегги"! — боцмана глас прорезался. — Концы ваши — где? Концами я, что ли, должен запасаться? Салаги, синбабы-мореходы, олухи царя небесного!…
"Дед" перегнулся через поручень:
— Потише, Страшной! Здесь конец. Мы будем подавать.
— Это почему же — мы?
— Потому что они — бедствующее судно.
— А мы не бедствующее? Я-то помолчу. Только почему всегда рус-Ивану должно быть хуже?
— Это много ты хочешь знать, Страшной, — кричал «дед» весело. — Слишком даже!
Корма шотландца еще чуть приблизилась.
— Бросай, Алексеич!
Я пошел с грузиком к поручням. «Дед» мне поднес обе бухты к ногам, и я их пощупал сапогом для верности. «Дед» на меня направил прожектор, чтобы шотландцы меня увидели с бросательным, другим прожектором повел к ним на корму.
— Бросай, не медли!
Там их стояло трое. В середине — чуть повыше. Кто же из них поймает? Бросательный был почти весь у меня в руке, скойлан меленькими шлагами, а обе бухты под сапогом, я их еще раз пощупал. Животом прижался к поручням и кинул.
Бросательный с грузиком мелькнул в луче, как змейка, и упал к ним на поручни. Они засуетились там, захлопали рукавицами. И помешали друг другу же. Или не разглядели как следует конца. Я почувствовал, как он ослаб у меня в руке.
Я вытянул его и снова скойлал себе в левую руку, а грузик взял в правую. Зато уж я точно теперь знал, сколько мне надо длины.
Из рубки уже орать начали:
— Что там с концом?
— Ты не слушай, — сказал мне «дед». — И не торопись.
Может быть, просто рука у меня поехала, из-за проклятого плеча. Он упал у них под самой кормой. Тут и багром не достанешь.
— Торопишься! — сказал «дед».
Я теперь койлал его, сжав зубы, чтобы не дать себе заспешить. И кинул я хорошо. Размахнулся не спеша, а кинул рывком, с подхлестом, чтоб грузик завертелся в воздухе.
Он упал длинному на плечо, я это преотлично видел. А он захлопал себя рукавицами по груди, как будто комаров бил… И пропал из луча. Корма у них взлетела, а мы стали проваливаться, и у меня сердце провалилось, когда почувствовал, как он опять ослаб у меня в руке.
— Сволочь ты косорукая! — я ему крикнул, долгому. Мне плакать хотелось, что он такой конец упустил. — Убить тебя мало!