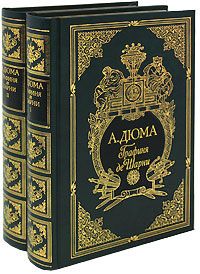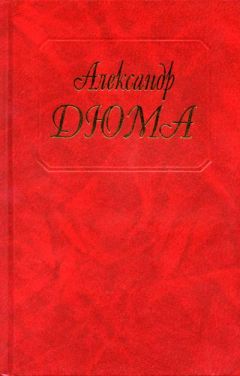Александр Дюма - Волонтер девяносто второго года
Выпрыгнув на правый берег (само собой разумеется, я позволил рыболову вновь отплыть на левый берег) и оказавшись на суше, через Кур-ла-Рен и ворота Сент-Оноре я побежал к метру Дюпле.
От Кур-ла-Рен до церкви Успения Богородицы, напротив которой стоял дом Дюпле, все улицы были заполнены возбужденным народом. Люди наблюдали, как с красным знаменем проходили мэр, драгуны, наемная гвардия; затем слышали страшную пальбу и поэтому, видя, что я, обливаясь потом, забрызганный кровью, бегу с Марсова поля, спрашивали: «Что случилось?» Не останавливаясь, я отвечал лишь одно:
— Драгуны и наемная гвардия убивают народ!
Позади меня собирались группы людей и в воздухе висел возглас:
— Драгуны и наемная гвардия убивают народ!
Я застал метра Дюпле на пороге дома, в окружении соседей и знакомых. Я рассказал ему обо всем случившемся, обо всем, что видел.
— Ну и дела! — воскликнул он. — Надо предупредить якобинцев, пошли скорей!
С полсотни членов клуба, ждали, охваченные беспокойством. Они еще ничего не знали: я первый принес им зловещую весть. Все пришли в ужас. Решили, что необходимо тотчас известить г-на Робеспьера, находившегося в Национальном собрании, послав за ним курьера.
Якобинцы понимали только одно: все обвинят их, потому что от них исходила инициатива в составлении роковой петиции. Конституционалисты, отколовшиеся от них и создавшие новый клуб фейянов, были вправе отступиться от этого народного движения, вступившего в противоречие с декретом Собрания.
Члены клуба благодарили меня и метра Дюпле: они кричали, что не признают никакой петиции, требующей отрешения короля, никакого документа, имеющего хождение от имени Собрания; наконец они заявляли, что клуб снова принесет клятву верности Конституции и подчинится декретам Собрания.
После того, что я видел в предшествующие дни, после того, что я писал под диктовку гражданина Бриссо, мне показалось, будто якобинцы смирились слишком быстро, совсем не проявив боевого духа. По сути, за их поведением крылись отказ защищать права народа и трусость, что было мне противно.
Я вышел из клуба и в глубокой задумчивости вернулся в мастерскую.
Спустя полчаса со стороны площади Людовика XV донесся громкий шум. Это наемная гвардия, разгоряченная бойней на Марсовом поле, возвращалась в Париж по улице Сент-Оноре, чтобы показать свою силу якобинцам.
Те едва успели закрыть решетчатые ворота. Наемные гвардейцы, столпившись перед монастырем, требовали пушку, чтобы разнести ворота и уничтожить логово республиканцев. Они смеялись, хлопали в ладоши, свистели. Улицу заполнили люди; они угрюмо переглядывались, готовые сразиться с гвардейцами.
Чувствовалось, что в эту минуту назревает одно из тех страшных недоразумений, когда люди хватаются за ружья, толком не зная, в кого же они должны стрелять.
Вдруг на другой стороне Люксембургской улицы я заметил, как вдоль ограды особняка канцлера, стараясь не обращать на себя внимания, идет человек, чьим очевидным желанием было проскользнуть незамеченным.
Я толкнул локтем хозяина и шепнул:
— Гражданин Робеспьер!
Это, действительно, был Робеспьер; за ним послали курьера в Национальное собрание, но он добрался до клуба в ту минуту, когда ворота захлопнулись перед самым его носом.
Ясно, что, если бы его заметили национальные гвардейцы, он подвергся бы смертельной опасности.
В этот миг Робеспьера узнали какие-то люди, несомненно якобинцы, и радостно его приветствовали. В душе он, конечно, проклинал эти почести.
Робеспьер ускорил шаг, устремившись вниз по улице, чтобы пробраться в предместье Сент-Оноре.
На Люксембургской улице многие кричали:
— Да здравствует Робеспьер!
Он побледнел, остановился, решая, свернуть ли ему с Люксембургской улицы, или продолжать идти своей дорогой. Он выбрал второе.
— Да здравствует Робеспьер! — снова воскликнул кто-то. — Раз уж так нужен король, пусть им будет Робеспьер!
Робеспьер совершенно растерялся; озираясь по сторонам, он искал, где бы спрятаться.
Дюпле подбежал к нему и предложил:
— Зайдите ко мне, гражданин, ко мне! Меня зовут Дюпле, я мастер-столяр и настоящий республиканец.
— Да, идите к нам, к нам! — воскликнули г-жа Дюпле и мадемуазель Корнелия.
И все трое, мужчина и две женщины, обступили Робеспьера, который покорно позволил увлечь себя в аллею. Я шел последним и, заперев калитку на ключ, защелкнул засовы.
Все произошло так быстро, что только несколько человек видели этот маневр. Они не проронили ни слова; у калитки не возникло никакой суматохи.
Робеспьер был необычайно бледен. Он сел, вернее, рухнул на первый попавшийся стул. Пока мадемуазель Корнелия, страстная его поклонница, протирала ему лоб своим носовым платком, г-жа Дюпле набрала ему из фонтана стакан свежей воды. Робеспьер поднес стакан ко рту. Рука его дрожала, и зубы стучали о стекло. Однако он выпил воду, огляделся и, пытаясь улыбнуться, сказал:
— Вижу, что я среди друзей.
— Скажите лучше, что среди почитателей, среди приверженцев! — воскликнул метр Дюпле.
— О да, конечно! — в один голос подхватили три женщины (на шум выбежала и мадемуазель Эстелла).
— Эх, если бы я знал об этом раньше! — посетовал метр Дюпле. — Я бы ни за что не позволил, чтобы за вами посылали в Национальное собрание.
— Как? — удивился Робеспьер.
— Да это все Рене, — пояснил метр Дюпле, указывая на меня. — Рене, славный малый, настоящий патриот, он, вы знаете, друг господина Друэ из Сент-Мену — того, кто задержал короля. Рене прибежал и сказал, что на Марсовом поле убивают людей. Нам лишь оставалось броситься к якобинцам, а, поскольку я член клуба…
— Совершенно верно, — перебил его Робеспьер, — я вас помню.
— Ну, вот мы и решили послать за вами.
— Я пришел как раз в ту минуту, когда закрыли ворота. Не желая возвращаться к себе, в глубь Маре, куда новости доходят до меня лишь на следующий день, я пошел просить убежища к Петиону — он живет в предместье Сент-Оноре. Вы встретили меня по пути и приютили у себя. Я прошу у вас разрешения дождаться здесь сумерек. Среди аристократов, доносчиков Лафайета, подручных Байи жизнь честного человека не может быть в безопасности. Умереть я не боюсь, но желаю погибнуть с пользой для родины.
При этой сцене я присутствовал без всякого душевного волнения: меня не трогали слова, сказанные Робеспьером. У этого человека слова не шли от сердца; глаза щурились и избегали прямо смотреть на вас; узкий покатый лоб не казался достаточно просторным, чтобы в нем могла гнездиться великая мысль; особа великого гражданина напоминала мне его речи: приглаженные, подправленные и дополненные.