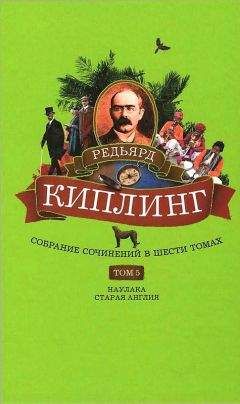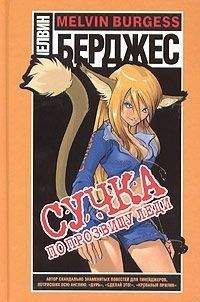Редьярд Киплинг - Ким
Но здесь — смиряюсь и терплю.
Я не борюсь с воздушной силой —
О стража, пропуск ей скорей!
Мосты спустите. Грез властитель,
Привет тебе с мечтой твоей.
За двести миль к северу от Чини, на пластах глинистого сланца Ладака, лежит Янклинг-сахиб, веселый человек, и сердито рассматривает в бинокль горные хребты в надежде увидеть какой-либо признак появления своего любимого проводника, кули из Аочунга. Но этот изменник с ружьем системы Маннлихера и двумястами патронов охотится в другом месте на мускусного барана для продажи, а на следующий год Янклинг-сахиб узнает от него, как сильно он был болен в это время.
По долинам Бушара — далеко видящие орлы Гималаев разлетаются в разные стороны при виде его нового синего с белым зонтика — торопливо идет некий бенгалец, когда-то толстый и благообразный, теперь худой и истощенный. Он выслушал благодарность двух знатных иностранцев, довольно искусно проводив их до туннеля Машобра, который ведет в большую и веселую столицу Индии. Не его вина, что, ослепленный сырым туманом, он провел их мимо телеграфной станции и европейской колонии Котгартт. Это была вина не его, а богов, о которых он говорил так увлекательно, что незаметно привел своих слушателей к границам Нагана, где раджа этого государства принял их за британских солдат-дезертиров. Хурри-бабу так много рассказывал о величии и славе своих спутников в их стране, что сонный князек улыбнулся. Он рассказывал это всем, кто спрашивал его, рассказывал громогласно и на разный манер. Он просил для них пищи, устраивал помещение, оказался искусным лекарем, причем ему пришлось лечить от ушиба в пах, ушиба, который можно получить при падении в темноте с каменистого склона горы, — и во всех отношениях был незаменимым человеком. Причина его любезности делала ему честь. Вместе с миллионами таких же рабов, как он, он научился смотреть на Россию, как на великую северную освободительницу. Он человек боязливый. Он боялся, что не сумеет спасти своих знаменитых хозяев от гнева возбужденных крестьян. Он и сам, пожалуй, мог бы ударить святого человека, но… Он глубоко благодарен и искренне рад, что сделал, что мог, для приведения их приключения к благополучному — за исключением потерянного багажа — окончанию. Он забыл о побоях, опровергал, что побои были нанесены в ту несчастную первую ночь под соснами. Он не просил ни пенсии, ни вознаграждения, но если они считают его достойным, то не могут ли написать ему свидетельства? Оно могло бы пригодиться ему впоследствии, когда другие путешественники, их друзья, пришли бы из-за ущелий. Он просил не забыть его в их будущем величии, так как полагал, что даже он, Мохендро Лал Дутт, магистр философии Калькуттского университета, «оказал государству некоторые услуги».
Они выдали ему свидетельство, восхваляя его вежливость, замечательное искусство, как проводника, описывая оказанную им помощь. Он засунул свидетельство за пояс и зарыдал от волнения: ведь они перенесли вместе столько опасностей. В полдень он провел их по забитой толпой улице до Союзного банка в Симле, где они хотели удостоверить свои личности. Оттуда он исчез, как предрассветное облако на Джакко.
Вот он, слишком похудевший, чтобы потеть, слишком спешащий, чтобы расхваливать лекарства в своем обитом медью ящичке, подымается по склону Шемлега, чувствуя себя достигшим совершенства. Понаблюдайте за ним, когда он, откинув свои восточные привычки, курит в полдень, лежа на койке, а женщина в усеянной бирюзой повязке указывает ему в юго-восточном направлении на другую сторону луга, поросшего высохшей травой. «Носилки, — говорит она, — путешествуют не так быстро, как отдельные люди, но его птицы должны уже быть на равнине. Святой человек не хотел оставаться, хотя юноша уговаривал его». Бенгалец громко стонет, опоясывает свои толстые бедра и снова пускается в путь. Он не хочет путешествовать во тьме, но его дневные переходы, ни один из которых не считается стоящим того, чтобы занести его в книгу, удивили бы людей, насмехающихся над его расой. Добросердечные крестьяне, припоминая продавца снадобий, проходившего два месяца тому назад, дают ему убежище от злых лесных духов. Он видит во сне бенгальских богов, книги, употребляющиеся в университете, и Королевское лондонское общество в Англии. На следующее утро качающийся сине-белый зонтик отправляется в дальнейший путь.
На рубеже Дуна, оставив далеко за собой Муссури, около равнины, расстилающейся в золотой пыли, отдыхают усталые носильщики. В носилках — как известно всем жителям гор — лежит больной лама, ищущий Реку, которая должна исцелить его. Поселения чуть не подрались из-за чести нести эти носилки, потому что лама давал несущим благословения, а его ученик — хорошие деньги — ровно треть платы сахибов. Носилки прошли целых двенадцать миль в день, что показывали грязные, истертые жерди, и дорогами, по которым редко проходят сахибы. Они шли через проход Ниланг в бурю, когда снег, наносимый метелью, наполнял каждую складку одежды бесчувственного ламы; среди мрачных вершин Раиенга, где сквозь туман до них доносился голос диких коз; покачиваясь, с усилиями пробирались они внизу по глинистой почве; с трудом удерживаемые между плечом и сжатыми челюстями, они огибали ужасные утесы на дороге, проложенной под Багартати; раскачивались с треском при уверенных, быстрых шагах на спуске в Долину Вод, шли вдоль ровной, полной испарений поверхности этой закрытой долины; подымались и опускались, встречая буйные порывы ветра, дующего с Кедарпата; останавливались среди дня во мраке ласковых дубовых лесов; проходили из поселения в поселение в предрассветном холоде, когда даже набожным людям можно простить, что они бранят нетерпеливых святых людей, и при свете факелов, когда наименее боязливые думают о привидениях. Теперь «дули» достигли конца своего пути. Горцы обливаются потом при умеренной жаре на нижних Севаликских холмах и собираются вокруг жрецов, чтобы получить благословение и плату.
— За вами заслуга, — говорит лама. — Большая, чем вы думаете. И вы вернетесь в горы, — со вздохом прибавляет он.
— Конечно. Как можно скорее в высокие горы.
Носильщик потирает плечо, выпивает воду, выплевывает ее и поправляет свои травяные сандалии. Ким, с худым, утомленным лицом, вынимает из-за пояса маленькие серебряные монеты, подымает мешок с пищей, запихивает пакет в клеенке — это священные для него писания — за пазуху и помогает ламе подняться. Выражение покоя снова появилось в глазах старика, и он не думает уже, что горы обрушатся на него и задавят его, как думал в ту ужасную ночь, когда был остановлен разлившейся рекой.