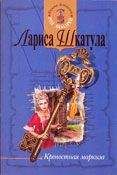Олеся Луконина - Чёрная маркиза
Представив себе собственное явление в любом из этих мест, Дидье снова тихонько зафыркал себе под нос, хоть и стуча зубами от холода.
Решительно, всё это было до чёртиков смешно…
— Patati-patata! — наконец пробормотал он, махнув рукой… и обычное его присловье сразу сработало.
Он увидел пламя маленького костерка, мерцающего невдалеке, у излучины. И небольшой хрупкий силуэт мальчишки-подростка. Присмотревшись повнимательней, он узнал того галчонка, что отвёз его в своей лодке к дому Жозефины Сорель, чтоб ей икалось, этой ведьме…
Дидье подумал, что может напугать паренька, задумчиво сидевшего у костра и ворошившего угли хворостиной, только когда уже вывалился из кустов, хрустя ветками.
Он в очередной раз чертыхнулся и поспешно выпалил:
— Вечер добрый! Могу я тут у тебя присесть, малыш? Мне бы только погреться да обсохнуть чуток… Ты не бойся.
— Я и не боюсь, — мальчишка поднял на него удивлённые глаза, чёрные, как вороньи ягоды. — И я не малыш. Грейтесь, если желаете, капитан.
— Спасибо, ма… — Дидье в замешательстве кашлянул и, оглядевшись, подпихнул к огню берёзовый чурбачок, на который и присел, искоса рассматривая парнишку. Тот, в свою очередь, с таким же нескрываемым интересом уставился на него.
Что может предполагать мальчуган, обнаружив его вымокшим в реке сразу же после посещения дома старейшины?
Palsambleu!
Дидье едва не покраснел и торопливо осведомился:
— Как тебя зовут?
— Габриэль, капитан, — степенно отозвался тот, продолжая рассеянно ворошить светящиеся алым жаром угольки.
— Сколько же тебе лет?
Дидье и вправду стал интересен этот одинокий и совершенно независимый мальчуган.
— Двенадцать, — так же неспешно отозвался Габриэль и опять умолк.
— Ты сирота? Где ты живёшь? — Дидье сосредоточенно сдвинул брови. В этом ребёнке ни на гран не было детской непосредственности или озорства. Пожалуй, слово «малыш» и впрямь совсем ему не подходило.
— Все мои родные умерли, — парнишка пожал плечами. — В своём доме я только зимую. Я люблю, когда у меня над головой небо. — Голос его смягчился.
— Я тоже люблю небо, — искренне признался Дидье. Его одежда мало-помалу высыхала, и по мере этого у него из головы выветривались постыдные воспоминания о том, что произошло на кухне у Жозефины. — А море ты любишь?
— Реку люблю, — Габриэль снова пожал худыми плечами. — А море… я его никогда не видел.
— Если захочешь, — негромко сказал Дидье, внимательно глядя в его остроскулое большеглазое лицо, — можешь уйти отсюда со мной… с нами, на моём судне, когда завтра в полдень мы отправимся в море.
Чёрные глаза Габриэля на миг вспыхнули, но, помедлив несколько мгновений, он твёрдо ответил:
— Благодарю вас, капитан, но я нужен здесь.
— Кому? — вырвалось у Дидье, и он покаянно прикусил язык.
— Мадам Жозефине, — ответил парнишка спокойно и серьёзно. — Она добра ко мне… и даёт мне всякие поручения… доверяет мне.
— М-м… — промычал Дидье, поморщившись при одном упоминании о мадам Жозефине. — Что ж, как знаешь, ма… Габриэль. Но я бы с радостью принял тебя в свою команду.
Улыбка на миг осветила смуглое лицо мальчугана, но он больше ничего не сказал.
А Дидье, недолго думая, растянулся на песке, подложив под голову всё тот же чурбачок, и уставился в звёздное небо, щедро рассыпавшее над ними свои бриллианты. Тепло от костра согревало ему бок, речная вода мерно всплёскивала, — видать, у берега гуляла немаленькая рыбина, — какие-то птахи коротко поцвиркивали в кустах…
Дидье и сам не заметил, как провалился в глубокий и крепкий, без будоражащих сновидений, сон.
Проснулся он, согретый уже не костром, а солнцем. Он и забыл, какими долгими бывают здесь рассветы, не то что в южных широтах, где солнечный шар выстреливает вверх, будто из гигантской пушки. Покосившись на Габриэля, который, завернувшись в одеяло, безмятежно посапывал по другую сторону от погасшего костерка, Дидье спустился к заводи и старательно умылся, пригладив мокрыми ладонями торчащие вихры — так, как бывало, ему приглаживала их Даниэль, смеясь и тормоша его.
Дидье точно знал, что ему сейчас надо сделать.
По дороге к церкви он собрал целый сноп блестящих от росы цветов, которые тонко и медвяно благоухали: сиреневые и тёмно-лиловые колокольчики, белые с лимонными сердцевинками ромашки, выглядевшие, как девчонки-скромницы, и пурпурные полевые лилии.
Боже, как же давно он не приносил цветов своей матери…
— Прости, мам, — с трудом выговорил Дидье, неловко рассыпая букет по серому, чуть потрескавшемуся от времени надгробному камню.
Он знал, что виноват перед ней и перед Мадлен, но так же твёрдо знал, что теперь всё будет по-другому.
— Случается только то, что должно случиться, — с болью прошептал Дидье, глядя в невидящие глаза каменного ангела, украшавшего могилу.
Даниэль должна была пожертвовать собой, чтобы дать жизнь Мадлен.
Отец должен был ввести в свой дом Инес и Адель, чтоб те присмотрели за его осиротевшими детьми.
Инес, запуганная властной Аделью, должна была обратить на него, мальчишку-шалопая, весь пыл своего сердца и тела — так горный родник торит себе дорогу в скале, прорываясь к морю.
И он сам, Дидье Бланшар, должен был с позором оставить родную деревню по навету, который сам же на себя возвёл — для того, чтобы вернуться сюда через много лет совершенно другим человеком… пиратом и капитаном… вернуться за своей сестрой.
Всё было справедливо.
Всё было предопределено.
Круг замкнулся.
«Но мы жаждем, чтобы на Страшном Суде нас судили не справедливо, а милосердно»…
Буквы, чётко выбитые на надгробии, — имя матери, — вдруг расплылись у Дидье перед глазами, и он досадливо моргнул.
Останься он здесь, он никогда не увидел бы огромный, волшебный, сияющий и прекрасный Божий мир.
Никогда не узнал бы Тиш и Жаклин.
Не зачал бы дочь.
И не встретил бы Грира и Морана.
Нежданное тепло, похожее на тепло вчерашнего костра, разлилось у него в сердце, когда он вспомнил о том, как запер этих двух волков в своей каюте.
— Надеюсь, они не разнесут мою несчастную берлогу вдрызг, mon chien sale! — пробормотал Дидье вслух, улыбаясь во весь рот и невольно оглядываясь туда, где мирно покачивались в фарватере реки «Разящий» и «Маркиза».
Mon hostie de sandessein, ему ведь ещё предстояло выпустить Морана и Грира из каюты!
Пресвятая Дева, и куда же ему потом бежать? Отсиживаться на нок-рее, пока те не остынут?
Решив, что подумает об этом попозже, Дидье наклонился и порывисто подобрал с надгробия несколько пурпурных лилий. И, осенив себя крестным знамением, повернулся туда, откуда, как ему казалось, на него кто-то упорно смотрел.