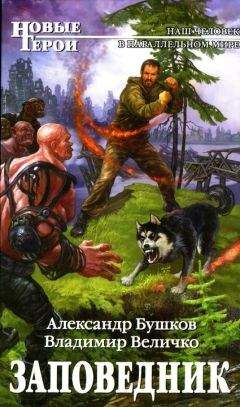Василий Тишков - Последний остров
Прошлым летом забрал Анисью молодой лейтенант Федор Ермаков и с ее немудреными пожитками перевез на полуторке в центр села на свое заброшенное подворье. Его-то домик был не старше самого Федора и срублен из толстенных привозных комлевых половин, которые продюжат в стенах еще добрую сотню лет. Да и сама Анисья решила новую семейную жизнь начинать в другом месте, чтобы ни стены, ни две старые березы не вгоняли ее в тоску-печаль по очень короткой первой замужней жизни.
А в домике у двух берез вскоре поселилась приблудная нищенка Мотя. Дожив до взрослых лет, она оставалась в детском разуме, хотя многие говорили, что Моте притворяться и слыть блаженной просто удобно. Как бы там ни было, но зимой у Моти появился ребеночек. Ребятишек разных возрастов полно в деревне, однако у каждого из них был законный отец. А что же тут получается? Какой пример для вдовушек и невест-перестарков? И пошли суды-пересуды меж стариков и старух. А потом вдруг все примолкли. Когда Мотя оклемалась после родов и снова стала ходить за милостыней, да еще с ребеночком на руках, объявилась у нее в домике бабка Сыромятиха.
Постояла старуха посреди чистой комнаты, перекрестилась на пустующий красный угол и, клюнув воздух острым носом, сделала тяжкое для себя дело: вынесла пришлой женщине общественный приговор.
— Ты, милая, собирайся-ка насовсем. Поищи другую деревню. А то и город какой, где потеряться можно среди людской колготни. Да не сказывай там, чей у тебя ребеночек-то. А от нас уходи. Не ровен час солдатки осерчают, беды не миновать. Спокон веку сраму такого в Нечаевке не случалось, чтобы от супостата понести. Ступай с богом. Возьми вот хлебушка на дорогу и ступай себе от греха подальше.
Бабка Сыромятиха вышла от Моти прямая, сердитая, так и прошла через всю деревню к своему дому и все ворчала, поводя своим острым птичьим носом из стороны в сторону, словно выискивая, на кого бы еще ей напустить скопившееся недовольство. Потом она весь вечер до полуночи стояла на коленях перед иконостасом, отбивала земные поклоны, молилась, выпрашивая прощение за грехи свои, Мотины и упрашивала Бога сберечь баб деревенских от худой славы.
В тот же день Мотя с ребеночком на руках ушла из Нечаевки, и в окрестных деревнях ее больше не видели.
Через неделю на лесоповале случилось непонятное. Под ухнувший штабель бревен угодил пленный немец. Никто не знал, почему завалился штабель и почему попал под него и нашел там смерть именно тот самый немец, который бывал у Моти в домике под двумя березами.
Только замечали всевидящие старики, как, проходя краем деревни, Ганс Нетке чуть замедлял шаг у берез и грустно смотрел на окна покинутого дома.
Когда начала убывать весенняя вода, у самого истока речки Полуденки, над ее омутком, Ганс Нетке посадил два ивовых куста. Он посидел на лавочке, тихо погрустил и ушел. И только речка теперь знала всю до конца историю Моти и того пленного немца, что погиб на лесоповале. Но речка говорить не умеет, и тайна эта осталась при ней.
Была речка и свидетельницей одной, вроде случайной встречи.
Как-то еще прошлой осенью в истоке Полуденки рыбачил Яков Макарович Сыромятин, думал пескарей на ушицу поймать, да время выбрал неуловное, даже в омутке совсем не было клева. Хотел уж отчаливать к камышам, чтобы там забросить бредешок на карасишек, а тут и окликнул его восседавший на велосипеде Антипов:
— Здорово, дед Яков!
— Здравствуй, коли не шутишь… — Яков Макарович распрямился в лодке, наблюдая, как Антипов лихо тормознул, пропустил велосипед меж длинных ног и небрежно кинул его у лавочки.
— Промышляешь? А я вот уж не помню, когда в лодку садился, а без рыбы не живу.
— Знаю. Ребятишек Овчинниковых эксплуатируешь.
— Ни в жизнь! Все законно. Натуральный обмен: пять ведер рыбы за буханку хлеба.
— Креста на тебе нет.
— Да и ты, к примеру, не шибко верующий… Сойди на берег-то, разговор есть.
— А не о чем беседовать нам с тобой, Антипов. Страховку и налоги я уплатил. И ты мне вроде не должен.
— Как сказать… — многозначительно обронил Антипов, уселся на лавочку и достал папиросы. — Иди-иди, покурим, да што…
Яков Макарович нехотя вышагнул из лодки, сел на самый краешек лавки, достал свой кисет.
— Поделись, дед Яков, как думаешь обо мне.
— Плохо думаю…
— Только ты не агитируй за советскую власть. Без свидетелей сидим, можно и откровенно. Что и сболтну, не докажешь… Мне тебя жалко, старик. Полжизни царю служил, за большевиков дрался, а в итоге что получил? Даже ордена тебе не дали. Карасишек вон промышляешь, чтобы старуху накормить. А мы, Антиповы, как жили сытно, так и в самую лютую голодовку ни к кому на поклон не пойдем. А пошто?
— Изворотистые вы, ничего не скажешь. Не зря вас тогда община на хутор отселила.
— И отселяли, и высылали. А я семь лет отмантулил на канале и специальность даже получил. По бухгалтерской линии.
— И то еще знаю, Антипов, как ты пятки себе подрезал, чтобы инвалидность получить, а потом старым золотишком откупился. Сам, поди, чуешь — для меня ты секрету никакого не имеешь, весь наизнанку просвечен. Однако ловок, умеешь концы прятать. Но… все одно, попадешься, Антипов. Такие, как ты, меры не знают. И ты зарвешься. На мелочах-то мы бы уж давно тебя прищучили. Ты на крупном сгоришь…
— Не об том речь. Давай сравним пользу нашу для страны. Интересная карусель получается.
— Нашел время… Да и счеты у нас с тобой разные.
Сыромятин хотел уйти, но Антипов его придержал.
— Погодь, дед Яков, успеешь на рыбалку. Ты ведь свой дебет с кредитом давно уже подбил, еще до революции. Пользы от тебя стране, считай, никакой и не было. Или не так? Ну, с коммуной гоношился, потом плотничал малость, лесником служил, мельником: все это — тьфу! Ломаного гроша не стоит на государственных весах. Меня ты считаешь чуть не врагом, а пользы не учитываешь. Прикинь — я ведь сейчас сам при власти и служу ей. Но это не в счет. Давай-ка лучше вместе с тобой вспомним, как вы с нами обошлись. Дом отца забрали — сейчас в нем правление колхоза. В лавке до сих пор магазин. Амбары. Это — недвижимое. Теперь живность: шесть лошадей, два десятка коров и бугай. Дальше: вот этими руками канал строил, Беломоро-Балтийский. Тоже польза огромадная. И счас — денежки живые с вас потрошу для казны. Вона какая от меня выгода государству, а в первую очередь — колхозу. Ну и… себе, конечно, не забываю на черный день оставить. Так ведь это крохи, без них государство скуднее не станет. При всем при том лично я считаю тебя вредным для общества человеком: именно ты вышколил самого злостного врага Нечаевки и окрестных деревень — Мишку Разгонова. Молоко на губах не обсохло, а жизни никому не дает. Придумал, что лес его вотчина, и зверствует.