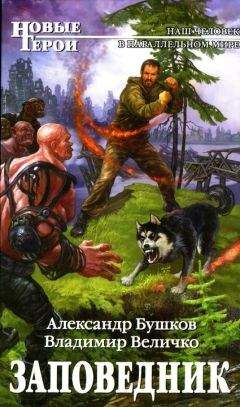Василий Тишков - Последний остров
Когда на сани была уложена добрая половина стожка и Мишка поддевал последний навильник, вилы уперлись во что-то упругое.
— Яков Макарыч, ты что здесь упрятал?
— И в мыслях не было. Може, забыл что ненароком.
Стали разгребать сумет и ахнули: привалившись к стожку, сидел уснувший морозным сном Микентий Бесфамильный.
— Эх, Микентий… — Яков Макарович стянул с головы шапку, опустился на колени. — Без оглядки ты жил на земле, легкую и смертушку себе отыскал.
Мишка тоже стянул с головы треух. Он со страхом глядел на Микентия, узнавая и не узнавая его, будто и не был тот никогда живым, а всегда был вот таким, с застывшими глазами, словно вытесанным из ледяного камня.
— Как же он здесь очутился? — охриплым от испуга голосом спросил Мишка.
— Парфен сокрушался, что корил почем зря Микентия-то. Дак он всех подряд теперича матерщиной обхаживает. Микентий, видать, совестливей других оказался, отправился сено искать, а себя потерял насовсем.
— Нет, дядя Парфен тут ни при чем, — сказала Аленка и осеклась, испугалась страшной мысли.
— Знамо дело, ни при чем, — согласился дед Яков. — Однако был человек — и нету его. Все мы, человеки, виноваты друг перед дружкой. Только вина эта по-разному каждым понимается…
Аленка не могла согласиться с Яковом Макаровичем. Это она и только она виновата в смерти Микентия, это она уговорила его сделать Анисье подарок, а он с радостью согласился. Такой уж был человек Микентий. Теперь вот нет его. И никогда не будет. А она будет еще долго жить на земле. И Анисья будет жить. И Михалко. Но как же теперь Аленке смотреть в глаза людям? Как она будет смеяться, чему-то радоваться, кого-то любить, когда толкнула, хоть и ненароком, человека на верную смерть? Казалось ей в эти горькие минуты, что никогда не забудет смерть Микентия Бесфамильного, что не сможет жить без вины среди людей наравне со всеми.
Так ей казалось.
А вот Анисья Князева, когда Аленка рассказала ей всю историю, не стала казниться, только задумчиво помолчала, глядя куда-то вдаль, может, давнее что вспомнила, и тихонько сказала: «Вот дурачок». Сказала, будто камень с души сняла. А как поправилась маленько, снова пошла работать на почту. Через неделю-другую еще одну заботушку на себя взвалила, в колхозе стала посыльной при конторе. Работа эта неблагодарная, никто на нее не соглашался, ведь через посыльного и людей на колхозную работу определяли, и к налоговому агенту вызывали, и агитировали на займы, да и в самой конторе приборку сделать надо. Беспокойно, хлопотно, зато все время на людях. Это Анисье как раз и подходило.
Глава 22
Не согреши
Течет речка Полуденка, течет месяц-другой, вот уж и зиму переломила, а не издержалась, наоборот, окрепла к весне и в половодье спрямила местами русло, укрепила берега, заставила поверить в свое появление. По дороге из Нечаевки за Полдневое на хутор Кудряшевский и в деревню Золотово даже пришлось строить два мостика.
Нечаевский лесник и колхозный конюх ладили их. Неказистые получились мосты, не для тракторов, однако леспромхозовская полуторка пролетала по ним уверенно.
Возле истока, как просил Парфен Тунгусов, Мишка сделал лавочку. Сделал с таким расчетом, чтобы за спиной оказались ели, а глазам открывался широкий простор: озеро Полдневое, береговая подкова с деревней Нечаевкой, дальние леса и грейдерная дорога на Юргу. Слева, на увальном полуострове, плыл над водой хутор Кудряшовский, а за ним в бело-зеленом березовом окружении всплывала деревня Золотово. Но самое главное, конечно, исток речки Полуденки. Полая вода по весне так рванула из озера, что в начале бывшего Заячьего лога выбился порядочный омуток. Так что с самых первых своих шагов Полуденка обзавелась всем, что полагается каждой давным-давно протекающей речке или речушке.
И пошла жизнь своим чередом: быстро спала весенняя вода, успокоились, зазеленели прибрежные камыши на озере Полдневом, вывели и вырастили в их укрытии свое крылатое потомство чирки и кряква, гагары и дымчатые чайки… А там потянулась длинная ненастная осень. А за нею снова зима, еще длиннее, с крутыми морозами, да такими, что и Полуденка притихла в укрытии тонкого льда в ожидании новой весны.
Что увидела, что услышала Полуденка за год, от весны до весны? Ведь речка не спит ни днем, ни ночью, невеликая водица ее собирается с ближайших озер и ключиков в окрестностях Нечаевки, а еще талые воды и дождевые гости-посланцы. Вот и получается: много тайн стекается в Полуденку, и умей речка говорить человеческим языком, скольким поселянам она помогла бы добрым советом и просто утешила надеждой.
Ну вот, например, приходил сюда несколько раз летними вечерами Парфен Тунгусов, сидел на лавочке, курил и отдыхал в одиночестве. Думал Парфен, что вот и еще один военный год пережили, быть может, самый тяжелый. Однако люди все так же с надеждой ждали весну, все так же работали в колхозе, вкладывая, казалось, уже последние силы в дела, огромный смысл которых означал: все для фронта, все для Победы! Но, как определил весну сорок пятого года сам председатель, дышалось нонче людям намного легче.
— А ить повеселел народ-то, — тихо и по секрету говорил председатель речке Полуденке. — Вроде и жрать нечего, пообносились в пух и прах, а все одно жисть дала крен на поправку. И то сказать, наши-то уже по Европе заграничной идут, свою землю-матушку освободили и теперича другим народам помогают. Должно, со дня на день войну и закончим.
И все чаще о самом себе задумывался Парфен. Запали в сердце слова Миши Разгонова насчет его личной жизни. Парфен и не прочь подумать всерьез о той, которая заслонила собою всех девчат и вдовушек в их деревне. Конечно, Парфен был наслышан (в такой небольшой деревне трудно что-либо скрыть от соседей), что Дина Прокопьевна еще до войны гуляла с кузнецом Петрей. Все четыре года она честно ждала Петрю, тут уж ничего не скажешь. Да и как же иначе: испокон веку строго соблюдали себя нечаевские женщины, а в войну-то особенно. Хуже предательства или измены Родине считалось в Нечаевке, когда хотя бы чуть в сторону от порядка житейского вильнет солдатка какая или невеста уговорная. Но… нет больше Петри-кузнеца. А Дине-то вон уже сколько, двадцать седьмой годок доходит. Серьезный возраст для невесты. Но Парфену в самый раз. Ему ведь тоже еще за тридцать не перевалило. Вот и получается: оба-два перегуляли всех своих годков-товарищей.
Повздыхает Парфен и не сможет ничего придумать, как же ему осмелиться и поговорить с Диной, ведь ни за что не угадаешь, что там у нее на уме, может, она какой-то несокрушимый обет сама себе придумала. Тогда уж тут никакая смелость не поможет.