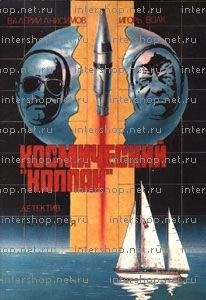Дарья Плещеева - Слепой секундант
Андрей безошибочно определил, куда протянуть руку, чтобы похлопать по плечу своего дядьку.
— Судьба мне помереть в бобылях, — сказал он.
— Ан нет, не судьба, — возразил Фофаня. — Господь каждому его кару уготовил. Вот и меня, поди, где-то ждет моя Матрена Никитишна.
— Да на черта эти бабы сдались? — философски спросил Еремей. — Смолоду оно вроде и ничего, а как поумнеешь, так и видишь — ничего в них путного нет, один визг и суета. Так-то, баринок мой разлюбезный, и нонешняя госпожа Венецкая новоявленная лет через пять будет точно так же на мужа визжать и девок по щекам бить, как твои тетушки, не к ночи будь помянуты, — о том, что тетки, не колеблясь, послали с ним племяннику пятьсот рублей, он умолчал.
А Тимошка просто вздохнул. Он успел перемолвиться словечком с Дуняшкой, успел даже ручку пожать, но их разлучили, и будет ли встреча — неведомо.
* * *Возок миновал Каменный остров, свернув к югу, миновал Аптекарский, и тут Фофаня закричал:
— Стой, Тимошенька, стой! Сподобились, сподобились!
— Что там стряслось? — спросил Еремей, отворив дверь возка.
Фофаня, никому ничего не объясняя, соскочил на лед и побежал к темневшему впереди невнятному комочку.
Еремей прищурился, стараясь разобрать, что там такое.
— Баринок мой разлюбезный, да он умом повредился!
— Как ты догадался?
— Так на льду — то ли узел с тряпьем, то ли что похожее, а он на коленки пал и к этому самому ползет.
— Подождем, — решил Андрей. — Долго он на льду на коленках не простоит. Не до такой же степени дурак.
Андрей оказался прав — Фофаня очень скоро поднялся на ноги и замахал, призывая: езжайте сюда, дело важное!
Возок медленно подкатил к Фофане.
— Велик Господь! — возгласил Фофаня с тем отчаянным восторгом, который уже был хорошо знаком Андрею. — Призрел на мое сиротство! Послал утешение! Еремей Павлович, это ж Андрей Федорович!
Тряпичный ком пошевелился, явилось сухое лицо.
— И впрямь человек, — сообщил Еремей питомцу. — Стоит на льду в земном поклоне. И, я чай, уже давно стоит.
— Это ж молитвенник за нас, грешных, за весь Петербург молитвенник! Его молитвами город стоит! А то бы давно утоп! — продолжал восклицать Фофаня. — Святая душенька! Насквозь каждого видит!
— И что же твой молитвенник в тебе видит? — полюбопытствовал Андрей, которого стремление Фофани облобызать каждого нищенствующего безумца уже даже не развлекало.
— Грешен я и в Царствии Небесном доли не имею…
— Так прямо тебе о том сказано?
— Зачем говорить? — Фофаня достал из-за пазухи кошель, вынул монетку. — Вот — полушка. Андрей Федорович, возьми полушку, помолись за меня, убогого, — он попытался всунуть монетку в руку молитвеннику, но тот как-то очень ловко увернулся. — Вот! Вот! Не берет! — даже с каким-то отчаянным торжеством возгласил Фофаня. — Только у праведников милостыньку берет! Только у них! Только копеечку! Андрей Федорович, помолись обо мне, грешном, за всех молишься, и меня помяни, убогого Феофана…
Молитвенник поднялся. Был он мал ростом, под одеждой — худ и едва ли не невесом.
— Андрей! — позвал он. — А у меня для тебя есть царь на коне, — голос был хриплый, но совершенно не мужской.
— Баринок мой разлюбезный, да это ж юродивая! Помнишь, в полку толковали — ходит в мужском платье, велит звать себя мужским именем? — Еремей даже обрадовался, что вспомнил лицо из прошлой, столичной, гвардейской жизни питомца. — Она еще вдове майора Шенберга предрекла, что та в наводнение всего имущества лишится, так и вышло…
— Андрей, возьми во славу Божию, — юродивая подошла к распахнутой дверце возка, нашла руку барина, сдернула с нее рукавицу и втиснула в ладонь монетку. — Тут царь на коне. А я за тебя молиться стану, — она повернулась и пошла прочь.
— Что за царь? — спросил озадаченный Андрей.
Дядька взял у него монету, разглядел под фонарем.
— Да копейка же, а на ней — святой Егорий со змеем. Егорий на коне, как водится…
— Господь чудо явил, — перебил его Фофаня. — Коли кому Андрей Федорович копейку даст, у того любое дело спорится, враги от него отступаются, пуля и штык его не берут, в лавке — прибыль, в дому — дитя нарождается!
— Чудо будет, коли я вмиг прозрею, — прервал его Андрей. — Тогда уверую в чудеса от юродивых.
— Так ведь точно по ее слову делается, — словно сам себе не веря, тихо сказал Еремей. — Она у купца милостыню не приняла, сказала — детей своих лучше покорми, у тебя дети с голоду мрут, и что же? Явилось, что у него два байстрючонка в нищете растут. А тебе, вишь, царя на коне дала.
— Коли он тебе так дорог, забирай.
Еремей спрятал монетку в подвесной карман внутри возка. Дальше ехали молча. Фофаня, сидя рядом с Тимошкой, дулся и вздыхал. Еремей в возке отвернулся от питомца. Он не так пылко обожал городских безумцев, как Фофаня, но Андрей Федорович в его глазах был особой почтенной. Историю молодой вдовы, после смерти мужа надевшей его мундир и принявшей его имя, Еремей в общих чертах знал и огорчался, что питомец так неприкрыто вольнодумствует.
Андрей же едва сдержал возмущение, когда ему стали толковать о чуде. Выпрашивать чудо у Бога — этого еще недоставало! Таскать с собой копейку, как деревенская баба — ладанку с непонятным содержимым, это почти то же, что верить в ватку, пропитанную освященным маслицем, более, чем в Божье слово. А то, что чуда все-таки хотелось, раздражало его безмерно…
* * *Он долго не мог уснуть, потом задремал на несколько минут, вскинулся, решил, что настало утро, стал шарить вокруг, ища одежду, собрался в сарай — стрелять. Насилу Еремей втолковал ему, что ночь на дворе. В итоге, выспаться Андрею не удалось, и он в дурном расположении духа велел везти себя на поиски Валера.
Валер после приключения со шкатулой побаивался, как бы те, кто имел на нее виды, не устроили сурового допроса сторожу Федору. Поэтому он наконец сбрил бороду и поменял местожительство. Комната в домике, которую он снимал, притворяясь плотником, осталась до поры за ним, имущества у него было немного, переезд он совершил стремительно и оказался на Итальянской. Зная, что Андрей будет его искать, он оставил записку у безносой бабы Феклы и засел в новом жилище.
Валер был из тех помещиков средней руки, что особой любовью к деревенской жизни не горят. Два села достались ему по завещанию и дали возможность бросить службу в Горной экспедиции. Жил он без лишней роскоши, тратил время на встречи с Элизой и чтение книг, и события последнего времени были для него тягостны: привязчивый по натуре, он искренне любил и Элизу, и Гиацинту, а вот суеты и потрясений не любил совершенно.