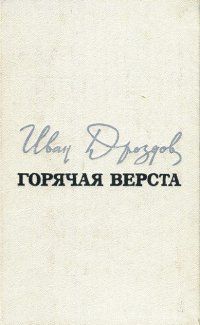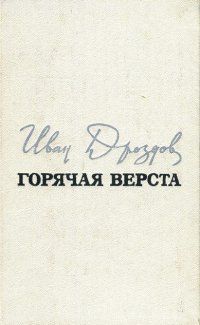Иван Дроздов - Подземный меридиан
Сыч подал Кургану папку. Архипыч листал книгу Каирова, сверял её страницы с оригиналом самаринской рукописи, возмущался и качал головой. Время от времени в адрес Каирова он отпускал реплики:
— Ну, хлюст!.. Ну, хлюст!..
Вернув Сычу книгу и рукопись, писатель всплеснул руками:
— Да ведь он опаснее солдата, бегущего на тебя с винтовкой. Ей–ей, опаснее. Того видишь, а этого нет. Этот в тебя стрелять не будет. Наоборот, с улыбочкой к тебе, а ударит — не поднимешься. Да, да, да… — продолжал Архипыч, выставляя вперед руку, словно Сыч ему возражал. — Сегодня Каиров обдерет до нитки подлинного творца, завтра он лишит его возможности творить, а послезавтра втопчет в грязь его имя, уничтожит его морально — ведь это настоящая война, старик?.. Тут нам нельзя в обороне сидеть.
— Так вот и помогите нам! Давайте воевать, подключайтесь, — обрадованно подхватил Сыч. — Ваше имя тут… как тяжелая артиллерия.
Архипыч насторожился, в его глазах потух огонек задора, и весь он сразу сник. А Сыч напирал:
— Вы вместе с нами фельетон подпишете?
Архипыч, поняв, что деваться ему некуда, проговорил неуверенно:
— Подпишем вдвоем, без других…
Сыч порывисто протянул ему руку, крепко пожал её.
14
К отцу, на край города, Самарин шел пешком. «Индивидуальные домики» — так назывался поселок металлургов — разрослись, метнули ряды черепичных крыш на взгорье и там, у подножия трех терриконов, уперлись в белокаменный дом с колоннами — Дворец культуры. Первые домики, среди которых был и дом сталевара Ильи Самарина, появились здесь давно. Со стороны терриконов потянулись они к поселку металлургов. Терриконы поднимались вверх, к небу, а шахта «Комсомольская — Глубокая», вздыбившая их над степью, все лезла и лезла вниз, в глубь земли. И чем глубже она устремляла штреки и квершлаги, чем выше поднимала терриконы, тем больше разрастался поселок, сохранивший свое название с тех времен, когда в этом краю Степнянска не было ещё шахт, а стоял один только старый, дореволюционный металлургический завод.
Андрей родился тут и вырос. Нынешним летом он всего несколько раз побывал в отцовском доме. Все было недосуг: то ездил отдыхать, то суета жизни и дел закружила. Теперь вот уже наступила осень и со степи тянули прохладные ветры — Андрей неторопливо шел в отчий дом. Настроение у него было хорошее, шагал размашисто и легко.
Впереди по аллее, в синеве раннего вечера, он увидел своего старика. В распахнутом плаще тот шел не торопясь, сутуля спину, задумчиво глядя себе под ноги. Самарин приостановился, хотел окликнуть отца, но как раз в этот момент сбоку незнакомый женский голосок пропел:
— Здравствуйте, Андрей Ильич. Давненько в наших краях не бывали.
В профиль Андрей успел разглядеть красивое лицо незнакомки. Кивнул женщине, сказал: «Добрый вечер». Про себя же подумал: «Она меня знает, а я не припомню. Должно быть, в школе вместе учились».
Здесь, на окраине, свои законы. В них есть что–то от старины: патриархальная благость и дух людской солидарности. Что–то семейственное, родное чувствуется в отношениях, слышится в словах.
И он ещё подумал о незнакомке: «Жизнерадостная».
Не желая навязываться в попутчики, незнакомка прибавила шагу и обогнала Самарина. Андрей глядел ей вслед, представлял, как она сейчас поравняется со стариком, поклонится ему и степенно проследует дальше. Старика Самарина знал весь город. Сорок лет простоял Илья Амвросьевич у мартена, сорок долгих, горячих лет. И неизвестно, когда бы вышел на пенсию, если бы однажды не упал во время завалки и не повредил ногу.
Андрей решил не догонять отца. Шел по улице медленно, предавался воспоминаниям. Подойдя к калитке родного дома, остановился. Сквозь ветви по редевшего сада видел окно гостиной, за тюлевой занавеской маячил силуэт Хапрова — старого художника, недавно вернувшегося из Англии, где он жил в эмиграции. Поселился Хапров с семьей в Москве, но дома не сидит. Ездит душа цыганская по стране. Сам о себе говорит: «Перед смертью хочу спеть свою лебединую песню». Рисует сталевара Самарина. И пьет. Пьет он все больше и больше. Однако же рисует Хапров отменно. И работает много, исступленно.
На этот раз Хапров тоже рисовал. Нахохлившийся, взъерошенный, он держал в руках кисть и, словно фехтовальщик, то порывался вперед, нанося удары по холсту, то отстранялся, застывая в напряженной позе.
Андрей вошел в залитый синеватой мглой сад, направился к дровяному сараю. Летом аккуратные кирпичные постройки утопали в цветах, теперь желтые листья лежали ровным слоем по всей усадьбе. Илья Амвросьевич убрал их лишь на тропинках и небольших площадках перед домом, сараем и погребом. Сумрак сгущался; вокруг разлилась непривычная после городской сутолоки тишина, она таилась между черными ветками, покоилась на уснувшем заборе, на крышах, трубах. Здесь все было знакомо с детства, все дорого и мило сердцу Андрея.
Старик, не видя Андрея, прошел в дом, а Самарин, подстрекаемый нетерпением увидеть свое рабочее место, открыл дверь сарая, включил электрический свет. Тут им была оборудована небольшая мастерская — она же и столярная и слесарная.
— Эй, в сарае!.. Кто там?.. — вышел на крыльцо дома отец Андрея.
— Это я. Здравствуй, папа!
— Вспомнил отца! — недовольным голосом проворчал старик. — Дело, что ль, какое? — И подал руку.
— А так, без дела, уж и не заходи в родной дом? Самарин обнял отца, поцеловал в щеку. Старик продолжал ворчать:
— Не больно ты без дела–то заходишь. Когда мать–покойница жива была, нет–нет да, бывало, заглянешь. А уж потом… по праздникам да в день именин.
— Ну, ну, не бранись, отец, ты ведь знаешь, что, кроме тебя, у меня на свете никого и нет.
Андрей подумал о Марии, грустно подумал, с тоской.
— Жениться пора, — сказал отец, словно бы угадывая его мысли. — Ишь, на висках седина вызвездила. Пойдем в дом.
Андрей молчал.
Вошли в Андрюшину комнату: здесь все было так, как и пять лет назад, когда Андрей — единственное чадо Самариных — ушел в студенческое общежитие, чтобы «не тратить время на ходьбу». Узкая железная кровать, этажерка с книгами да неказистый стол у окна. Из–под кровати выглядывает коврик из кроличьих шкурок — водил когда–то кроликов Андрей Самарин. В студенческие годы он бывал в своем детском гнезде временами: когда месяц поживет, в другой раз — неделю, а случалось — одну ночь переспит. Когда же получил комнату в центре города, и совсем стал редко бывать у родителей.
— Я поживу в своей келье.
Старик пожал плечами, про себя подумал: «Твоя, мол, воля. Однако, что–то с тобой случилось, парень…» Но сказал другое: