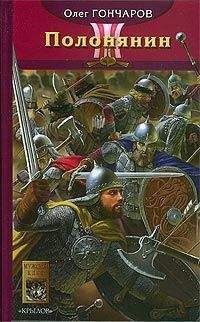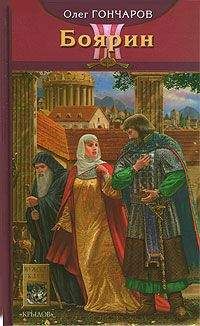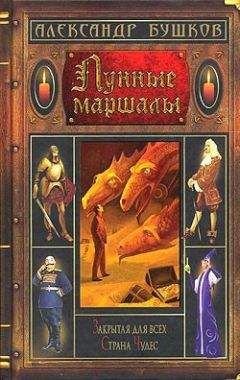Джеймс Клавелл - Благородный дом. Роман о Гонконге.
Линк смотрел на рисунок, как загипнотизированный, отдыхая душой. В комнате было не жарко и не холодно, все было прекрасно, и её тело казалось невесомым.
«Что в ней есть такого? — спрашивал он себя. — Откуда это очарование? Ведь ты, несомненно, поддался какому-то наваждению, ты очарован. Это так же верно, как то, что существует смерть и налоги.
Да, мы занимались любовью, но и все на этом. Никаких обещаний я не давал, и все же...
Ты очарован, дружище.
Да. И это чудесно».
Он закрыл глаза и, задремав, уснул.
Орланда, проснувшись, тоже старалась не шевелиться, не желая будить его. Хотелось продлить наслаждение, его и свое. И нужно было время, чтобы подумать. Иногда так бывало в объятиях Горнта, но она понимала, что это не одно и то же и не будет никогда. Квиллана она всегда боялась, всегда была начеку, изо всех сил стараясь угодить, вспоминая, не забыла ли чего.
«Нет, — восторженно думала она, — сейчас было лучше, чем когда-либо с Квилланом, о, насколько это было лучше! Линк такой чистый, и от него не пахнет табаком. Чистый и чудесный. И я обещаю, клянусь Мадонной, что стану ему идеальной женой, самой лучшей из всех. Я буду использовать все: разум, руки, губы и тело, чтобы угодить ему, удовлетворить все его желания, и сделаю все, в чем он будет нуждаться. Все. Все, чему научил меня Квиллан, я буду делать для Линка. Даже то, что не очень нравится. Для Линка я буду делать это с удовольствием. Когда он подучится, мое тело и душа станут источником наслаждения, его и моего».
Она улыбнулась про себя, свернувшись в его объятиях.
«Приемы Линка, конечно, не идут ни в какое сравнение с тем, что умеет Квиллан, но недостаток мастерства с лихвой восполняет его сила и энергия. И нежность. Для меня его руки и губы просто волшебные. Никогда, никогда, никогда раньше такого не было».
«Заниматься любовью, Орланда, — это лишь полдела, — говаривал Горнт. — Ты можешь творить чудеса. В твоей власти наполнить мужчину неутолимым желанием, и тогда через тебя он поймет, что такое жизнь».
«Но чтобы достичь наивысшего наслаждения, нужно стремиться к нему и много работать.
О, я буду стремиться к нему для Линка. Клянусь Мадонной, я положу все: и разум, и сердце, и душу. Его гнев я обращу в покой. Разве мне не удавалось тысячу раз усмирять гнев Квиллана своей нежностью? Разве это не чудо — обладать такой властью, и о, это было так просто, когда я научилась, так удивительно просто, и замечательно, и приносило такое удовлетворение.
Я прочитаю все, что об этом написано, и всему научусь, и не стану разговаривать после „тучек и дождя", а буду лишь ласкать — не для того, чтобы возбудить, а только для наслаждения, и никогда не попрошу: „Скажи, что любишь меня!", а сама скажу: „Линк, я люблю тебя". И задолго до того как моя кожа утратит свежесть, у меня родятся сыновья, которыми он будет восторгаться, и дочери, которым он будет умиляться. А потом, задолго до того как я уже не буду возбуждать в нем желание, я очень тщательно подберу ему другую женщину для наслаждения, недалекую, но с красивой грудью и тугим задом, и стану должным образом выказывать свою радость и кротость, и буду сочувствовать, если у него не получится, потому что он уже состарится и его мужская сила начнет иссякать, и контроль за деньгами будет в моих руках, и я стану нужна ему как никогда. А когда надоест первая, я найду другую, и мы — ян и инь — проживем так наши жизни до самого конца, и инь всегда будет верховодить над ян!
Да. Я буду тайтай.
И однажды он предложит съездить в Португалию к моей дочери, и в первый раз я откажусь, и во второй, и в третий, а потом мы поедем — если у меня на руках будет наш сын. И тогда он увидит её и полюбит её тоже, и эта боль больше не будет мучить меня».
Орланда вздохнула. Ощущение было чудесное, тело словно невесомое, и он уютно уткнулся головой ей в грудь.
«Насколько восхитительнее заниматься любовью, никак не предохраняясь, — думала она. — Просто восторг. Какое это чудесное ощущение — чувствовать, как в тебе поднимается волна, знать, что ты молода, и можешь рожать, и готова отдать себя всецело, осознанно, молясь о ниспослании новой жизни, в которой его жизнь и твоя соединятся навеки. О да.
Да, но мудро ли ты поступила? А? Если он, скажем, оставит тебя? Единственный другой раз, когда ты сознательно дала себе свободу, был тот месяц с Квилланом. Но тогда на то было разрешение. Сейчас у тебя разрешения не было.
Что, если Линк оставит тебя? Может, он придет в ярость и велит избавиться от ребенка!
Он не велит, — сказала она себе в полной уверенности. — Линк не Квиллан. Беспокоиться не о чем. Не о чем. Мадонна, прошу, помоги! Помогите мне, все боги! Пусть взрастет семя его, о, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, молю вас всем сердцем!»
Бартлетт заворочался и проснулся.
— Орланда?
— Да, дорогой, я здесь. О, какое ты чудо! Спи, времени у нас хоть отбавляй, спи, — радостно убаюкивала она его, довольная, что отпустила ама на весь день и ночь.
— Да, но...
— Спи. Через некоторое время я принесу какой-нибудь китайской еды и...
— Может, ты хотела бы...
— Спи, мой дорогой. Все в порядке.
79
19:30
Тремя этажами ниже на другой стороне дома, что выходила на склон холма, Четырехпалый У смотрел телевизор. Это была квартира Венеры Пань, и он сидел, развалясь в покойном кресле, сняв туфли и ослабив галстук. Рядом на обычном стуле сидела старая ама, и оба время от времени разражались грубым хохотом, потешаясь над старыми фильмами с Лорелом и Харди[358].
— И-и-и, Толстый ведь сейчас зацепится своей, ети его, ногой за строительные леса? — фыркнул Четырехпалый. — А...
— А Худой получит по лбу доской! И-и-и.
Оба смеялись над трюками, которые видели уже раз сто, потому что эти старые черно-белые ленты крутили без конца. Фильм кончился. На экране появилась Венера Пань, чтобы объявить следующую передачу, и Четырехпалый вздохнул. Она смотрела с экрана прямо на него, и он, как и все сидящие перед телевизором мужчины, был уверен, что эта улыбка предназначена ему одному, и хотя У не мог разобрать, что она там лопочет по-английски, понимал он её очень хорошо. Его взгляд был прикован к грудям Венеры Пань: он мог завороженно смотреть на них часами, У разглядывал их вплотную, но так и не обнаружил ни единого признака хирургического вмешательства, о котором шептался весь Гонконг.
— Титьки у тебя, надо признать, само совершенство. Такой формы и такого размера я ещё не встречал, — авторитетно заявил он, ещё на ней, позавчера вечером.
— Ты говоришь так, чтобы польстить своей бедной Дочке, которая уже почти нищая, о-хо-хо!