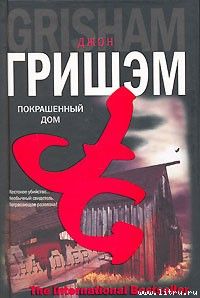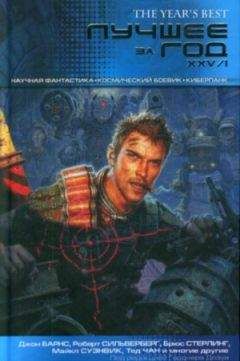Джон Бакен - Запретный лес
Он не мог сказать, сколько продолжались эти медлительные танцы, ибо просидел как во сне, слушая чарующие звуки… Внезапно все изменилось. Поляну покрыла тень от набежавших на луну туч. В воздух прокрался холодок. В черноте загорелись неизвестно откуда взявшиеся огни, и они не мерцали, хотя меж крон гулял ветер… Музыка смолкла, танцоры сгрудились у алтаря.
Над ними возвышался псоглавый вожак, держа что-то в руке. Таинственный свет запылал красным, и Дэвид понял, что дударь держит птицу — петуха, алого, как кровь. Что-то яркое брызнуло в выемку камня на голой верхушке алтаря. Собравшие издали крик, заставивший Дэвида заледенеть. Он увидел, как все упали на колени.
Вожак заговорил громким и пронзительным, как у сомнамбулы, голосом, но Дэвиду удалось разобрать только одно слово, повторенное многократно, — Авирон[86]. Выкрикивая его, дударь макал пальцы в кровь на алтаре и касался лба танцоров, и те, до кого он дотрагивался, падали ниц…
В этом богомерзком действе не осталось ни грана невинности. Страх закрался в сердце Дэвида, и больше всего ужаснуло то, что он начал бояться только сейчас. Он сам едва не пал под властью чар.
Потом началось нечто смахивающее на перекличку. Вожак зачитывал имена из лежащей перед ним книги, и распластавшиеся на земле люди отвечали ему. Все это больше походило на бормотание слабоумного, а не на язык земли Шотландской: сплошные гортанные звуки. И, как навязчивый припев, повторялось слово «Авирон».
Затем с жутким воплем сборище вскочило на ноги. Загудела волынка, но звучала еще какая-то мелодия, будто просачивающаяся из-под земли и из чащобы. О невинности и кротости не могло быть и речи. Раздавалась самая настоящая колдовская музыка, наигрываемая Дьяволом на пылающей адской дуде. Собравшиеся задергались в танце, словно их ноги не выносили жара лавового озера. В Дэвиде пробудился ветхозаветный пророк, взирающий широко открытыми глазами и с душой, исполненной ужасом, на творящееся нечестие.
Если танец на Белтейн можно было назвать омерзительным, то ныне перед священником бушевала животная похоть. Хоровод кружил и кружил, неистовый, но ведомый единой целью, безумие смешалось с пороком. Дэвид узнавал лица прихожанок, старых и молодых, — сколько раз они смиренно сидели в кирке по воскресениям. На всех мужчинах были маски, но он не сомневался, что если их сорвать, из-под звериных морд покажутся знакомые ему черты, обычно выражающие добронравие и благочестие. Танцующие хватались друг за дружку и разлетались в стороны, но Дэвид заметил, что при прохождении каждого круга они целовали определенную часть тела вожака, утыкаясь в нее носом, как псы на обочине.
Пастор сидел на верхушке сосны. Вот сейчас он точно знал, что ему делать. Он вспомнил имена нескольких беснующихся внизу женщин, а Риверсло должен был назвать мужчин. В хороводе металось несколько масок с козлиными рогами, но Дэвид заметил, что к ним присоединилась еще одна; этот высокий, очень подвижный человек особенно усердствовал в своем стремлении угодить псоглавцу. Был ли то Шиллинглоу с его анисовым снадобьем?
Тьма стала непроглядной, и поляна освещалась лишь свечами, сокрытыми где-то у земли. Подул ледяной ветер, и, прорвав горние плотины, хлынул ливень. Как и ожидалось, Ламмас закончился дождем, разразившимся посреди чистого неба.
* * *Дэвиду померещилось — и он воспринял это как часть богопротивного морока, — что ливень не погасил огней. Сам он мгновенно промок до нитки, но свечи горели, хотя дождь, как бичом, хлестал струями по поляне… Пляска прервалась. Серебром зазвенела труба, ветер подул сильнее, заставив водяную стену косо лупить по кронам деревьев, а людей спешить прочь. Когда священник вновь взглянул сквозь дождевые стрелы на едва освещенную спрятавшейся луной поляну, там никого не осталось. Ему почудилось, что, невзирая на бушующую грозу, он еще слышит гул голосов, на этот раз удаляющийся вглубь Леса.
Подождав немного, он принялся спускаться. Это оказалось сложнее, чем забираться наверх, потому что ему никак не удавалось найти тот сук на соседнем дереве, с которого он, раскачавшись, перепрыгнул на сосну. В конце концов пришлось соскочить с высоты в добрых двадцать футов в папоротник и кубарем скатиться на опустевшую поляну… С трудом поднявшись, Дэвид хотел было помчаться прочь, но задержался, принюхиваясь к запаху нечистых шкур… Ах да, безусловно, так пахло анисовое масло Риверсло.
Дэвид быстро нашел дорогу домой. Он бежал почти без остановки, забыв все свои страхи. Бьющие в лицо дождевые струи, казалось, очищали его и придавали сил. Он видел немыслимое зло, но смотрел на него, как Всемогущий, сверху, и выглядело оно жалким и хилым, сорняком, что не выдержит прополки, — его не стоило бояться слуге Господнему. Дьявол всего лишь пакостник пред ликом Бога. Внезапно Дэвид вспомнил, что почувствовал при первых звуках напева, — и склонил главу.
Риверсло добрался до Гриншила раньше пастора. В воздухе стоял запах жженых шкур: козлиная маска и плащ горели на куче торфа. Сам соратник, нелепый и промокший, сидел на табурете и глоточками пил «живую воду», припасенную Рэбом Прентисом. Отличавшийся вечером таким завидным самообладанием, теперь он покрылся испариной от страха.
— Слава Господу, вы живы, — заикаясь, произнес он, а спиртное лилось по его бороде. — Думал уж, что не узрю вас во здравии, что не выбраться мне из того треклятого места. У меня по сю пору колени подкашиваются, а ноги все изранены: сломя голову несся я по камням да верещатнику, аки взбесившийся стригунок. Ох, сэр, не для человечьих очей таковская жуть!
— Зрили вы Супостата? — спросил испуганный Прентис.
— Видал его в земном обличье, и каплю крови красного кочета достал, и отплясывал-скакал, аки всяк иной, но их нечестивые празднества не по мне. Сэр, перепужался я, хычь в жизнь ничего не страшился, а ноне пробрало меня до кости, аж в зенках потемнело. Реку вам, сам позабыл, зачем пришел, да что уж, имя свое запамятовал вместе с отцом-матерью, был я аки детёнок в логове боглов… Шкуры я пожег, а как выведу всех на чистую воду, так и одежу свою спалю до нитки, а то провоняла она самой Преисподней.
— Вы многих узнали там? — спросил Дэвид.
— Неа. В очах помутилось. Кружился волчком, стыдно признаться, но вопил, как и прочие, да простит меня Боже!
— А как же масло, зелье из анисового семени?
Риверсло протянул Дэвиду пустую бутылочку.
— Тута я вас не подвел, — сказал он. — Вот кого уж я узнал на шабаше, так это дударя. Стоило к нему подойти, как нахлынула на меня ненависть лютая, а такую я лишь к одному человеку на всем белом свете питаю. Как настал мой черед склониться и лобызать его, получил он от меня не токмо поцелуй. Ежели он разом не пожжет свои штаны, поутру вонь от них будет стоять по всему Чейсхоупу.