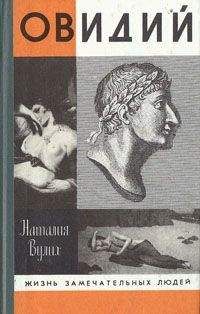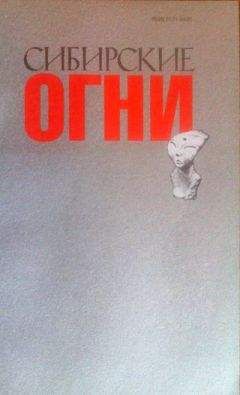Александр Зорич - Римская звезда
Я, расплескивая дымящееся содержимое котелка, едва уговорил вскарабкавшегося на диеру Телема принять у меня драгоценную ношу. И, восхваляя Барбия за благоприобретенную в упражнениях, нестарческую свою силу, вполне успешно одолел шесть локтей надводного борта – последним из всех.
А по выцветшей азиатской траве, по островкам и рекам жучиного копошения, где только что пробежали Телем со своими подельниками, уже спешила погоня.
Толпа молодых людей верхом, на лошадях без седел, с одними уздечками, вооруженная луками и легкими дротиками. Наверняка – либо пастухи стада, обворованного Телемом, либо единоплеменники этих пастухов, либо просто разбойники. А то и без «либо»: разве разбойники не могут владеть стадами?
Употребляя невероятный, грязнейший греческий диалект, они поносили нас и призывали под страхом всех мыслимых морских несчастий вернуть украденное (как по мне – потеря не стоила таких страстей). Не прекращая браниться, они засыпали нас стрелами. Среди которых, к великому счастью, не было зажигательных.
И вот когда каждый гребец выкладывался за троих, стараясь превозмочь жестокий прибой и как можно быстрее отойти от берега, когда матросы прятались от обстрела под скатанным парусом, а Телем, загородясь единственным щитом, орал местным, что «еще вернется» и «закопает всех в морском песочке», я помнил лишь о своем долге.
На крышку каждой амфоры мною была вылита кружка свежего лаврового отвара. Горячая, пахучая жидкость текла по крутым бокам, убивая, калеча, внося смятение в ряды неприятеля.
Те жуки, которые не умерли на месте (а умерли многие!), впали в панику. Многие взлетели, закружились в воздухе и попадали на палубу, где и остались лежать, бессильно шевеля лапками.
Все они были мною безжалостно раздавлены.
Некоторое время еще прибывали жидкие отряды новых охотников до нашей пшеницы – из числа опоздавших. Однако эти жуки, идущие в арьергарде нашествия, завидев картину страшного разгрома, предпочитали за лучшее упасть в море. Понимали ведь и они, что позор поражения, понесенный их черным племенем, смыть могла только смерть!
Победа была полной. А главное – спасибо сердитой молодежи с луками! – ее результаты удалось закрепить. Ведь диера все-таки покинула негостеприимный берег, запруженный черной напастью.
К слову, сердитая молодежь упражнялась в стрельбе отнюдь не бесплодно. Овца и козленок были отмщены.
Когда я, не замечая ничего вокруг, ошпаривал жуков отваром из котелка, стрела вошла одному гребцу прямо в ухо. Наконечник вышел с противной стороны из-под нижней челюсти.
Через два часа гребец скончался.
Это был тот самый Сарпедон, который отказался помочь.
V. Назон чистит трубы
Рим, 12 г. н.э.
1. Помню, в Томах, на калитке во двор Барбия, висела предостерегающая табличка «Берегись собаки!» Но собаки у Барбия не было.
Скажу больше, собаку мой друг считал животным нечистым, неудачливым, вечно битым и презирал кабыздохов как рабы презирают рабов, а воры – аферистов.
– Выходит, табличка от прежнего владельца осталась? – предположил как-то я.
– Сам сделал.
– Но зачем? Неужто сармата надеешься собакой своей навранной отпугнуть?
– Сармата? Да нет. Я имел в виду в абстрактном смысле.
– Это как?
– Всегда нужно быть бдительным, – со всегдашней своей серьезностью отвечал Барбий. – Даже когда нет никакой собаки, нужно помнить про нее, пока за жопу не ухватили. Я это для себя написал. Чтобы бдительности не терять даже дома. Нет, особенно дома! Потому что в своем дому самые отъявленные собаки тебя стерегут. Самые волкодавы! Зубы – во! Когти – во! Я имею в виду, волкодавы в отвлеченном смысле. Мои волкодавы суть злоба, неверие и отчаяние…
Тогда обхохотал я доморощенного философа Барбия. Но стоило мне провести в Риме мой первый день, как рассуждение гладиатора – о свирепых волкодавах, что поджидают тебя в твоем дому – отчетливо мне вспомнилась. Меня, однако же, пугали не «духовные» волкодавы Барбия. Но собаки ночных патрулей, собачьи лица бывших клиентов, собачьи сердца бывших друзей.
Стоило мне добраться до Форума, где, бывало, кружил я в пестрых водоворотах сограждан целые вечера, пройти мимо колодца Либона, где в годы младые регулярно встречался Назон с шакальим племенем ростовщиков, я понял, сколь опасное предприятие затеял.
– Назон! Эй, Назон! Послушай, вон тот человек… Это не Публий Овидий Назон? – спросил за моей спиной незнакомый голос. Я заставил себя невозмутимо продолжить свою прогулку, я не обернулся.
– Да ты, Фортунат, вообще сбрендил?! Тот Назон в ссылке хрен знает сколько уже времени! В саму Британию наш Цезарь его заслал… Будешь так бухать и это вот самое, Цезарь и тебя туда отправит, и на папашу твоего не посмотрит! – сообщил глазастому незнакомцу его товарищ.
Больше на Форум я не заглядывал. И в термы Агриппы, где, бывало, сумерничал, веселый и пьяный, среди друзей и нетрудных в любви подруг – тоже. По Священной Дороге не прогуливался. А знакомые виллы, сады и книжные лавки обходил десятой дорогой. К театрам боялся даже приближаться. Как проказы сторонился всего, что связано с моим уютным вчера. Ведь знал я: Цезаря делает сенат, а человека – то, что привычно ему и любо. В Томах мне легко было казаться другим – потому что там я и был другим, Томы меня переменили. Резвые же воздухи Города неумолимо слизывали с меня полезную новую шкуру, коей оброс я во Фракии. И я чувствовал себя мимом, который намазался черной краской дабы играть эфиопа, но на полпути к подмосткам попал под ливень.
Ужас и страх! Чем дольше я вдыхал смрадные ветры Города, тем больше становился похож на самого себя. Тем обильнее тайные, нефизические сходства с тем, старым Назоном в моем облике проступали.
Эти сходства, опасался я, помогут недругу изобличить меня, Назона-воина – загорелого и жилистого, одетого в бедное потертое платье, волосатого-бородатого (три года в Томах я брился даже в лютые морозы, но на пути в Херсонес бороду все же отпустил). Именно они помогут узнать меня вопреки всем очевидным несходствам с тем, былым Назоном-пиитом.
За тысячу сестерциев я снял себе комнатушку на пятом этаже, под черепицами, на улице Большого Лаврового Леса. Снял на полгода. Надеялся, этого срока мне хватит.
Гигантская инсула, где я жил, принадлежала некоему Луцию, о котором стихотворная надпись в подворотне сообщала, что он «плут, выпить не дурак, говнюк и пидор».
К слову, надписей в той подворотне было много, причем крайне странных. Окончания некоторых двустиший глупенько перекликались между собой, например, первая строка оканчивалась на «розы», а вторая – на «морозы» и, очевидно, это было не случайностью, но замыслом. Уже потом я вспомнил, что Маркисс, которого однажды занесло в Галлию в свите одной знатной распутницы (она ехала навестить мужа-полководца), рассказывал мне, что дикари-галлы собезьянничали у нас не только одежду, но и поэзию. И, как это свойственно дикарям, слегка переделали ее под свои детские вкусы, так что стала она чирикать и кривляться, как будто высмеивая сама себя этими кровь-любовями, сапогами-пирогами. Вскоре оказалось, что в инсуле моей что-то вроде галльского землячества и теория моя как бы подтвердилась.