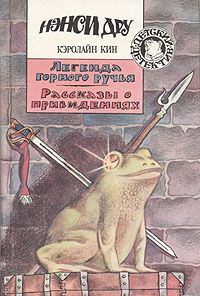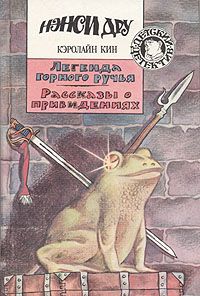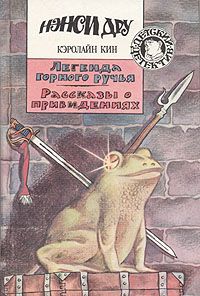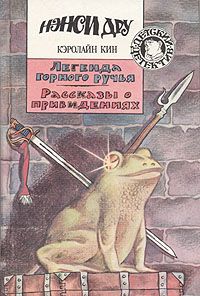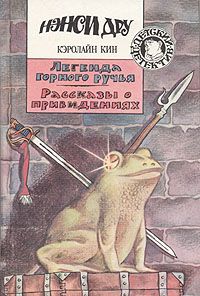Николай Зарубин - Надсада
Приезжала домой Люба — и мимо его, отца. Являлся Володька, и тот куда-нибудь, но чаще — в тайгу.
Подрастал и младшенький — Витька. Шнырял по тайге и то ягод наберет да потом сбудет, то живицу подрядится собирать и прибыток — в копилку. Отцу с матерью хвастал, что через год-два купит себе «жигуленка».
— Сопли подбери, — снисходительно скажет Степан.
— У меня их нету, — шмыгнет носом Витька. — Сопли побегут у других, ежели дам кому по сопатке.
— Эт кому же? — вмешивалась Татьяна. — В тюрьму хочешь, паршивец?
— Я так дам, что ни одна экспертиза не докажет, что это я дал, — нагло отвечал «паршивец».
— Ой, люшеньки, вот молодежь пошла. Ты ей слово, она тебе — десять.
— Ты бы хоть ремень взял в руки, — обращалась к мужу. — А то, глядишь, и на родителей руку подымут.
— На вас я руку не собираюсь поднимать, — резонно отвечал Витька. — Кто тогда кормить меня будет? Кто учить будет?
— Ишь ты, — удивлялся Степан. — Правильно рассуждат. Мы нужны тока для обслуги, как дармовые работники.
Для порядка хлопал сына по затылку, тот втягивал голову в плечи и нырял за дверь.
Нет, думал Степан. Что-то и впрямь необратимое происходит в мире. Меняются люди, грубее и проще становятся взаимоотношения между близкими, наперед выходит материальный интерес.
С объявлением перестройки в стране и в самом деле в жизнь людей входило нечто невиданное ранее. Шараханье в государственном управлении неизменно переносилось на семьи, на соседей, на сложившийся уклад поселка Ануфриево, на производство. Народ то смеялся до упаду, обсуждая какое-то нововведение вроде сухого закона, то сатанел, устраивая по праздникам около клуба беспричинные потасовки, обходящиеся, правда, пока без поножовщины.
Но и поножовщина была не за горами — к тому шло, о том говорили старики, о том печалились жены и матери. И были причины для беспокойства: повсеместно нарастала тревога. Тревожились по поводу недостатка лесосечного фонда, по поводу оголенных от спиртного прилавках магазинов, по поводу обещанных по телевизору перемен в сторону ужесточения дисциплины, ответственности и еще чего-то такого, доходившего до ума поселковых медленно и трудно.
— Афанасьич, скажи, че такое «общий Европейский дом»? — приставали мужики к Белову.
— Крышу хотят сгородить над Европой, — нехотя отвечает Степан.
— Да брось ты, — не верили. — Из чего ж они ее сгородят-то и для чего? — продолжали донимать.
— Дабы спастись от кислотных дождей.
— У нас так же льют и — ничего. В прошлом году по Айсе сколь леса пожелтело, особенно молодняк.
— То у нас, а то — у них.
— А-а-а…
— Вот то-то и оно, — скажет Степан и пойдет своей дорогой.
С перестройкой все меньше стали усматривать в человеке человеческое. Наедет, скажем, милицейский «воронок», прокатится по улицам, подберет попавшихся выпивших мужиков и — в райцентровскую вытрезвиловку. И трясут бедного мужичка по полной программе: и штраф плати, и на производстве держи ответ, и аморалку припишут, еще куда сообщат. А мужичок не только меньше не станет пить, а еще больше заливает, только уже какой-нибудь очиститель для окон или клей. И обмирает всеми внутренностями, кои теряют всякую способность к переработке того гремучего зелья. И — несут мужичка наперед ногами на местный Ануфриевский погост.
Так-то схоронили своего сынка Саньку и Беловы. Прибрел после обеда в родительский дом, слезно клянчил у матери опохмелки, та в сердцах не дала.
— Санечка-то мой и грит мне, мол, поплачешь еще, пожалешь еще, скупердяйка, да поздно будет, — убивалась Татьяна на похоронах. — У меня ж, дуры старой, было че дать, а вот быдто бы озлобилась, быдто че во мне ощетинилось, и — не дала. Лежит теперь мой соколик ясный, закрыл глазыньки наве-э-ки-и-и… Ой, люшеньки-и-и…
Случилось же вот что. Вернувшись из родительского дома, долго шарил Санька по полкам в кладовой в поисках, чего выпить. В безумии будто шарил. И наткнулся то ли на «синявку», то ли какую-то иную жидкость. Выпил, и, видно, стало ему плохо. Выбрался на улицу, а тут и «воронок». Затолкнули. Повезли. А Саньке все хуже и хуже. Начал блевать, так, будучи сами полупьяные, милиционеры давай его тыкать в ту блевотину лицом, как тыкают нагадившего котенка. Глумливо, со смехом, с унизительными словечками. И — кончился, не доехав до райцентра, Санька, о чем рассказали потом ехавшие вместе с ним поселковые мужики.
Лежал в морге с засохшей блевотиной на лице, куда ездил сам Степан. Степан же обмыл тело сына, переодел.
Возвратившись со скорбным грузом, просидел возле гроба с телом сына целую ночь. Какие думы думал, какие жернова мыслей перемалывал, однако к утру обронил непонятное, мол, война еще только начинается и передовая сегодня пока что прошла по таким горемычным, как их Санька. И что, мол, Санька — то первый ряд цепи воинов, каковая первой и падает.
— Че, Степа, сказывать? — ничего не поняла Татьяна. — Кака война, где? Кто враг?
— В стране война, — грубо ответил муженек. — А враг — опричники иль попросту — чиновники разных мастей.
— Че ж это за чиновники за такие? И де они сидят?
— Во всех эшелонах власти — ну, хоть в поссовете.
— Эт Холюченко-то чиновник?
— И Холюченко — тако же. Опричник…
— Оп… оп… ричник… — едва выговорила Татьяна.
— Именно, опричник. — утвердительно подвел черту Степан. И прибавил: — Враг.
Глянула на него супруга, как на полоумного, и заплакала навзрыд.
— Ой, люшеньки… — голосила. — Ой, совсем с ума сошел, старый… Да какой же он враг, Холюченко-то?..
— Холюченко, канешно, мелочь, но и он в той армии опричников.
— Не надо, милая моя, так убиваться, — успокаивала Татьяну бывшая здесь же супруга Данилы Евдокия, которая приехала сразу, как узнала о Санькиной смерти. — С горя это он, не понимает, что говорит.
— Все он, фашист, понимат, — упрямилась Татьяна. — Тока чтоб еще хуже мне было… Чтоб и меня в гроб вогнать… Положить рядом с сыночком, а он тута барином будет жить… Бабу себе приведет молоду-у-у-ю…
— Вас он любит, — уговаривала Татьяну Евдокия. — Вас одну и деток. И никто ему, кроме вас, не нужен.
— Любит он, как же, держи карман шире. Ведмедя черного матерого он любит — никого боле… А чтоб похмелить сынка-то, отвести от беды — на это его нет… Сколь приходил, сколь просил — тока я, тока я одна и похмеляла…
— И доопохмеляла, — не выдержал Степан. И прибавил непонятное: — Чтоб выстоять в начавшейся войне, трезвым надо быть на голову-то.
На этот раз внимательно посмотрела на деверя Евдокия, решилась спросить: