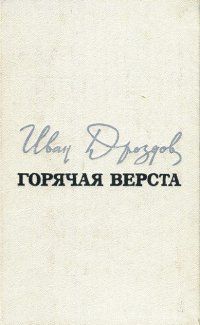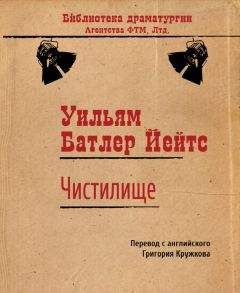Иван Дроздов - Горячая верста
Раздвинул куст, увидел зеленоватую спинку жабы.
Она плотно прижалась к земле, тяжело испуганно дышала. Прыгать не собиралась, прижалась к месту, пригрелась, и дом–зимовник был для нее дороже жизни. «Шельма, как напугала!» — ворчал академик, прикрывая её травкой, сгребая к ней порезанное будылье. Теперь утром хотел посмотреть, тут ли жаба? А когда разгреб травку и увидел её, кивнул ей, прищелкнул языком.
Тут над головой вдруг разлила стеклянные трели певунья–славка, — ещё не отлетела в теплые края; на соседней яблоне заиграли–задрались синицы, и словно выражая недовольство поведением птиц, с верхушки клена, стоявшего солдатом в углу сада, закричала сорока, да так, словно кто неистово крутнул трещотку. Фомин взмахнул на нее кулаком, крикнул: «Сор–р–рока, цыц!» И сел на пенек спиленной груши, задумался.
Он потом ещё долго сидел на пне, любовался всходившей над крышами домов зарей. Вспомнил некогда поразившую его глубокой мудростью и простотой фразу из Щедрина — писателя, которого он очень любил: «В красоте природы есть нечто волшебнодействующее, проливающее успокоение даже на самые застарелые увечья». Потрогал ладонью затылок — подержал руку в одном месте, в другом: не болит! И тихая, теплая волна радости разлилась внутри. И мелькнула мысль: «Может, отступит, перестанет мучить?..» Мысль почти невероятная, но всегда готовая явиться на смену приступам хандры и сомненья — явиться и спасительным огнем подогреть мечты и желанья, осветить, ободрить изнывшую от физической боли душу. Не терзай его эта мучительная, ломающая все силы болезнь, он бы все в своей жизни перестроил на другой лад. Он бы ринулся в атаку за свои идеи, ускорил бы все свои дела, и работа бы на его конвейере скоро бы закипела.
Он этими мыслями и тем, что голова его сейчас не болит, раззадорил свой деловой зуд и решил: зайду–ка я к своему старому приятелю Савушкину. Давно у него не был.
Вечером он под старый добрый плащ пододел свитер из лебяжьего пуха, натянул теплые носки, надел резиновые сапоги, взял палку с сучковатым узлом у комля и пошел к Савушкину — с ним он много лет работал в одном институте.
«Воздух–то, воздух!.. И тишь какая! Благодать!» — восклицал он, кидая взгляд то вправо, то влево. И, далеко выбрасывая перед собой палку, ударял ею по земле и глубоко, с наслаждением вдыхал прохладу осеннего вечера. Свернул за угол дома и очутился на дороге, ведущей в лес. Некоторое время шел по ней на подъем. Миновал поселок, три дубка, выросшие на его памяти, взошел на холмик, за которым начинался спуск в низину, к лесу и редким в лесу дачам. В низине стелился туман. Из него то там, то здесь, словно из молочной реки, выходили коровы. В лесу за туманом светились окна дач, светились редко, желто–серыми, размытыми пятнами. Когда полосы тумана на них надвигались, огни угасали, другие мигали, точно глаза лесных зверей. «Ах, красота!.. Ах, благодать!..» — Фомин ещё громче ударял по земле палкой и прибавлял ходу. Он шел в низину, в туман, чтобы, как и те люди, коровы, собаки, скрыться в нем с головой, пройти по дну «молочной реки» и углубиться в лес, где теперь царствуют ночь и осень, где выпавший ещё в начале ноября снег не поддался дыханию теплого воздуха, не растаял, а лежит плотным, затвердевшим настилом, где птицы и звери приготовились к ночлегу — угомонились, смолкли, но чутко внимают посторонним звукам. «Лес, туман… и все живое, — думал академик, — занесенная над лесом кривым палашом черная туча, и луна, взлетевшая в небо серебряным мячом, — все было, есть и будет и все подвластно вечным законам, и сама борьба в природе — процесс вечный, необходимый, следовательно, законный. Вот на землю выпал снег, и мириады насекомых гибнут, жизнь замирает в объятиях сырого холода, но минует ночь, сквозь тучи на землю глянет солнце — под теплым его дыханием новая жизнь народится, и так всегда, вечно, так идет по кругу, которому нет конца. Что же есть человек в этом сонмище природных явлений?.. Ни есть ли его жизнь, его борьба, его вседневные заботы и проблемы — лишь проявление законов природы?.. И вообще: не будь забот, хлопот, борьбы — что было бы тогда?..»
Фомин усмехнулся своим мыслям, почти вслух проговорил: «Если так, зачем же ты волнуешься, кипятишься?.. Да ты благодарить должен всех тех, кто сдерживает твои порывы, встает у тебя на пути. Они отстаивают свои понятия — следовательно, они так же естественны, как и ты. Они — двигатель твоей жизни; они так же нужны тебе, как воздух… и этот туман, и лес, и все живое».
Академик Фомин нередко и нешуточно задумывался над тем, как ему относиться к своим неладам, неудачам и всем людям, кто стремится или отсрочить исполнение его проектов, или ставит им глухую заградительную стенку. «Противники существуют помимо моей воли, — убеждал он себя, — я не властен над ними, они будут существовать и после меня — зачем же кипятиться, возмущаться; борись с ними, но борись спокойно, с достоинством; преодолевай тягость пути, как преодолеваешь ветер, дождь, грозу… Трудно? Да, трудно. И даже опасно Молния может ударить и убить… Но идти надо. Вот ты и иди. Как бы пи было тяжко — иди!..»
Усвой он такую философию, его бы не возмущал сам факт существования противников — он бы жил спокойнее, спал бы крепче и с улыбкой говорил бы с ними без нервного напряжения — и даже, возможно, кого–то бы из них уважал. И уж, конечно, голова его не болела бы так часто. Он, бывало, и свыкался с мыслью естественного хода борьбы, устремлялся мыслью в глубину доводов, выдвигаемых против него, — и находил там немало здравых мыслей, по крайней мере, ему казались реальными некоторые доводы противной стороны, но все они тут же, как бумажное сооружение на ветру, рассыпались, едва он узнавал истинные причины и цели своих противников.
Савушкин жил в маленьком флигельке, метрах в ста от дачного поселка ученых. Его флигельком начиналась деревня Мишино. Она точно боялась открытого места и пряталась в лесу, а флигелек Савушкина выпрыгнул на пригорок и стоял словно дозорный.
«Сюда двадцать лет ездил! — с горечью подумал академик и вспомнил, как, будучи директором института, хлопотал для Савушкина, «жившего в подмосковной деревне», квартиру в Москве, и райсовет уже выделил для него жилье, но академик к тому времени ушел из института, и новый директор отдал квартиру другому сотруднику. Фомин, вспомнив об этом, сбавил шаг, нетерпеливо повел шеей. Воспоминание ему было неприятным. «Не довел до конца дела, не довел», — корил себя Фомин.
Калитка была открытой: академик прошел внутрь усадьбы и увидел в саду, в кустах смородины, четыре улья и среди них Савушкина.
— Молодой человек! — с шутливой и нарочитой строгостью крикнул Фомин. — А ну–ка, подавайте сюда медовуху! Или медовой сыты?..