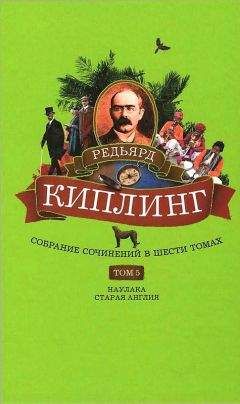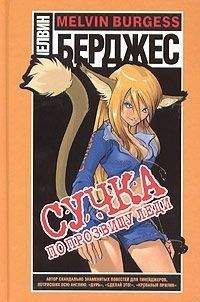Редьярд Киплинг - Ким
Хотя Ким и не выказал этого, но он, конечно, не верил ни одному слову из рассказа мальчика о Ливерпуле, который составлял для него всю Англию. Так прошло томительное время до обеда, самого неаппетитного угощения, поданного мальчикам и инвалидам в уголке одной из комнат в казарме. Ким впал бы в полное отчаяние, если бы не успел написать Махбубу Али. Он привык к равнодушию туземной толпы, но это полное уединение среди белых людей угнетало его. Он обрадовался, когда после полудня за ним пришел высокий солдат, чтобы отвести его в другой флигель на другом пыльном плацу, к отцу Виктору. Патер читал английское письмо, написанное красными чернилами. Он взглянул на Кима с еще большим любопытством, чем раньше.
— Ну, как тебе нравится здесь пока, сын мой? — сказал он. — Не очень, а? Должно быть, тяжело, очень тяжело для дикого зверька. Выслушай меня. Я получил удивительное письмо от твоего друга.
— Где он? Здоров ли? О, если он знает, куда писать мне письма, то все хорошо.
— Так ты любишь его?
— Конечно, люблю. Он любит меня.
— Судя по тому, что он прислал письмо, кажется, что так. Он не умеет писать по-английски?
— О нет. Я не знаю, конечно, но, вероятно, он нашел какого-нибудь писца, который может очень хорошо писать по-английски, и тот написал. Надеюсь, вы понимаете?
— Теперь все понятно. Ты знаешь что-нибудь о его денежных делах? — На лице Кима выразилось полное незнание.
— Как я могу сказать?
— Вот это я и спрашиваю. Ну, слушай, может быть, ты поймешь что-нибудь. Первую часть мы пропустим. Написано оно по дороге в Джагадхир.
«Сидя у дороги в глубоком раздумье, надеюсь получить одобрение вашей чести за шаг, который рекомендую исполнить вашей чести ради Всемогущего Бога. Воспитание — величайшее благо, если оно самое лучшее. Иначе никакой пользы…» Право, старик попал в самую точку. «Если ваша честь снизойдет дать моему мальчику лучшее образование в Ксаверии (вероятно, это св. Ксаверий in Partibus) на условиях нашего разговора в вашей палатке 15-го текущего месяца (какой деловой тон!), то Всемогущий Бог да благословит ваше потомство в третьем и четвертом колене. (Теперь слушай!) Смиренный слуга вашей чести будет доставлять для соответствующего вознаграждения по триста рупий в год за дорогое образование в св. Ксаверии в Лукнове и доставит в скором времени, чтобы переслать деньги в любую часть Индии, куда адресует ваша честь. Этот слуга вашей чести не имеет в настоящее время места, куда преклонить макушку своей головы, но едет в Бенарес по железной дороге из-за преследования старой женщины, говорящей так много, и не желая жить в Сахаруппоре на положении приближенного». Что это значит?
— Я думаю, что она просила его быть ее «пуро» — жрецом в Сахаруппоре. Он не согласился из-за своей реки. Вот что он говорит.
— Так тебе понятно все? А меня совсем сбивает с толку. «Итак, еду в Бенарес, где найду адрес и перешлю рупии за мальчика, который для меня зеница ока, и, ради Всемогущего Бога, дайте ему образование, а ваш проситель будет считать себя обязанным всегда усиленно молиться за вас. Написано Собрао Сатаи, не попавшим в Аллахабадский университет, за достопочтенного Тешу, ламу из Суч-Дзэн, ищущего Реку. Адрес — храм джайнов в Бенаресе.
P. S. Пожалуйста, заметьте — мальчик зеница ока, а рупии будут высылаться по триста в год. Ради Всемогущего Бога».
— Что это? Безумный бред или деловое предложение? Я спрашиваю тебя, потому что ничего не могу понять.
— Он говорит, что даст мне триста рупий в год, значит, даст.
— О, вот как ты смотришь на это?
— Конечно. Раз он говорит.
Патер свистнул. Потом он обратился к Киму, как к равному: — Я не верю этому. Но посмотрим. Сегодня ты должен был ехать в сиротский приют для детей военных в Санаваре. Там полк продержал бы тебя до тех пор, пока ты мог бы вступить в его ряды. Тебя воспитали бы как члена англиканской церкви. Беннет устроил это. С другой стороны, если ты поступишь в школу св. Ксаверия, ты получишь лучшее образование и истинную религию. Видишь, какова дилемма?
Ким ничего не видел, кроме образа ламы, отправлявшегося по железной дороге на юг без кого бы то ни было, кто мог просить за него милостыню.
— Я, как и каждый другой, могу повременить. Если твой друг вышлет деньги из Бенареса… — Силы тьмы! Откуда уличному нищему набрать триста рупий! — Ты отправишься в Лукнов, и я заплачу за твой проезд, потому что не могу тронуть собранных по подписке денег, раз я намереваюсь сделать из тебя католика. Если он не пришлет — ты отправишься в приют для детей военных за счет полка. Я дам ему три дня сроку, хотя совершенно не верю этому. Даже если потом он не будет вносить денег… Но этого я представить себе не могу. Мы можем делать сразу только один шаг, слава Богу. Беннета послали на фронт, а меня оставили здесь. Не может же он ожидать всего!
— О да, — неопределенно сказал Ким.
Патер нагнулся к нему.
— Я отдал бы месячное жалованье, чтобы узнать, что происходит в твоей круглой головке.
— Ничего там нет, — сказал Ким и почесал голову. Он размышлял, пришлет ли ему Махбуб Али целую рупию. Тогда он может заплатить писцу и писать письма ламе в Бенарес. Может быть, Махбуб Али навестит его, когда приедет на юг с лошадьми. Ведь он, наверно, должен знать, что письмо, переданное Кимом офицеру в Умбалле, вызвало большую войну, о которой так громко говорили за столом взрослые и мальчики. Но если Махбуб Али не знал этого, то не следовало говорить ему. Махбуб Али был жесток с мальчиками, которые знали — или думали, что знают — слишком много.
— Ну, до тех пор, пока я не получу дальнейших известий, — голос отца Виктора вывел его из раздумья, — ты можешь сбегать поиграть с мальчиками. Они научат тебя кое-чему, но не думаю, чтобы это понравилось тебе.
День скучно и медленно подходил к концу. Когда Ким захотел спать, его стали учить, как складывать платье и выставлять сапоги. Остальные мальчики издевались над ним. Трубы разбудили его на заре. Учитель поймал его после завтрака, сунул ему под нос страницу ничего не значащих букв, назвал их бессмысленными именами и без всякого основания избил его. Ким думал было отравить его опиумом, занятым у одного из слуг, но сообразил, что так как все едят публично, за одним столом (что особенно возмущало Кима, который предпочитал есть, отвернувшись от всех), то предприятие может быть опасным. Тогда он попробовал убежать в деревню, где жрец хотел опоить опиумом ламу, — деревню, где жил старый воин. Но всевидящие часовые, стоявшие у каждого выхода, заставили вернуться маленькую фигуру в красной одежде. Штаны и куртка одинаково калечили тело и душу. Поэтому он отказался от намерения бежать и решил по восточному обычаю положиться на время и случай. Три мучительных дня прошли в больших белых комнатах, в которых раздавалось эхо. Он выходил по вечерам под конвоем мальчика-барабанщика и все, что он слышал от своего спутника, были несколько бесполезных слов, составлявших, по-видимому, две трети всех ругательств белых людей. Ким знал давно эти слова и презирал их. Мальчик, вполне естественно, мстил ему за молчание и отсутствие интереса тем, что бил его. Мальчик нисколько не интересовался базарами в пределах лагеря. Он называл всех туземцев «неграми», но слуги называли его в лицо отвратительными именами и, обманутый их показной почтительностью, он ничего не понимал. Это несколько вознаграждало Кима за побои.