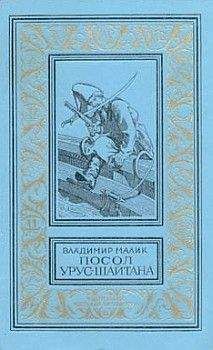Владимир Малик - Фирман султана
Он замолчал, внимательно всматриваясь в каждого.
— Что ты предлагаешь? — нарушил наконец молчание воевода.
— Я предлагаю всем двинуться на Украину! Баю Младену надо долго лечиться. А с нами будет Якуб. Он и в дороге найдёт лекарства… Под видом спахиев, везущих султанский фирман, мы легко преодолеем наш путь!
— Младену тяжело будет ехать верхом, — промолвил Якуб.
— Нам бы только добраться до Дуная, — ответил Арсен. — А там мы купим у валахов хорошую телегу…
Он вопросительно взглянул на воеводу. Тот долго молчал. Все ждали, что он решит.
Нарушила тишину Златка.
— Поедем, тате, — попросила тихо. — Все равно ты не скоро вернёшься в отряд… А Драган — надёжный юнак.
Младен лежал с закрытыми глазами на широкой скамье, застеленной одеялом. Якуб успел наложить новую повязку на рану, и острая боль начала постепенно утихать. Воевода думал.
— Я согласен, друзья, — прошептал он. — Наконец наша поездка к руснацким военачальникам причинит большой вред османам, а это на пользу Болгарии!
Звенигора облегчённо вздохнул. Вот он, путь на отчизну!..
Замелькали, закружились в голове мысли, тревожно забилось сердце. Неужели через месяц-другой он будет на родной земле? Неужели вдохнёт солоновато-горький полынный запах, смешанный с ароматом созревающего жита и кудрявого любистка? Принесёт в Сечь кошевому отчёт о своих странствиях в чужих краях да выпьет с товариством ковш жгучей горилки или игристого мёда? Неужели наконец отворит скрипучие двери хатенки над Сулою, прижмёт к груди поседевшую мать, онемеет от счастья, вглядываясь в дорогие сердцу лица сестры и деда?
Дыхание Арсена участилось. Прикрыл глаза, чтоб подольше задержать в мыслях картины родной земли, возникшие перед ним.
О родная земля! Ты как мать — единственная и неповторимая! И совсем необязательно, чтобы ты была самая красивая. На свете есть другие страны, полные волшебной красоты, где ласковый шум морского прибоя сливается с нежным пением радужных птиц, а запахи лавра или магнолии настояны на свежести южных ветров.
Ну так что ж!
Пусть ты скромнее в убранстве, пусть твоя красота не так заметна и не каждому бросается в глаза, но от этого ты не менее любима и дорога сыновнему сердцу, родная земля! Ты вошла в него вместе с молоком матери и шумом старой вербы у калитки, с плачем чайки у степного озерца и золотистым шорохом пшеничной нивы за селом, со звуками родного языка и девичьих песен по вечерам. Всем этим и многим другим, часто незаметным для глаза, ты, отчизна, вросла в сердце так прочно, что нет на свете силы, способной вырвать тебя из него и заменить другой…
В дни радости и в дни горя все чувства и помыслы наши мы отдаём тебе, родная земля, отчизна дорогая! Веселишься ли ты от полноты счастья, истекаешь ли кровью и на пожарищах воздеваешь к небу руки в проклятьях и мольбах, мы всегда с тобою, где б мы ни были. И пока в груди бьётся сердце, мы не перестанем любить тебя, родная земля!
10
Прошёл месяц. Преодолев немало трудностей и препятствий на пути, небольшой отряд всадников подъезжал к Каневу. То, что Арсен и его товарищи увидели на Правобережье, глубоко потрясло каждого. Весь край был опустошен. Города разорены, села сожжены. Тысячи мужчин, женщин и детей татары угнали в неволю. Большая часть населения бежала на Левобережье. Лишь у самого Днепра, среди Каневских гор, кое-где остались хутора, не видавшие ещё ни татар, ни турок. Но люди были удручены и со дня на день ожидали беды.
Больше всех не терпелось Гриве. Он рвался в Канев. Там жили его старые родители, жена, пятеро малых детишек. Тревога и радость сменяли друг друга в его душе.
— Эх и угощу вас на славу, братья! — выкрикивал он, когда был в хорошем настроении. — Только б быстрее добраться до дома! Весь Канев скличу! Столов наставлю душ на пятьсот! Десять бочек горилки закуплю у шинкаря! Нищим пойду по свету, а всех угощу на радостях, что возвратился из басурманской неволи!
Но проезжали сожжённое село или местечко — он умолкал и гневно сжимал огромные, как кувалды, кулаки. И долго потом от него не слышно было ни слова.
Когда перебрались через Рось, он все время был впереди. А за две версты до Канева оставил товарищей и погнал коня галопом. Только на горе, откуда был виден весь город, остановился и слез с коня. Здесь и догнали его друзья.
Он стоял остолбенев. Не шевельнулся, не произнёс ни слова. Изменился в лице и потухшими глазами смотрел на те холмы, на которых когда-то стоял Канев. Теперь там чернело пожарище. Тянуло смрадом. В небе кружилось вороньё…
Наконец Звенигора тронул Гриву за плечо:
— Поедем, Степан.
Грива двинулся молча, не проронил ни слова, пока не спустились вниз, в широкое ущелье, ведущее к Днепру. Там он свернул в боковую улочку и вскоре остановился перед сгоревшим дворищем, с трудом слез с коня.
— Здесь была моя хата, — произнёс глухо, словно про себя.
От дома остались только закопчённая печь да обгоревшие угловые столбы. Посреди двора вздымала в небо обугленные ветви старая дуплистая груша. Грива подошёл к ней, обхватил руками, прижался лбом к твёрдой, потрескавшейся коре. И застыл так в немом горе.
В глазах у Златки заблестели слезы. Все стояли понурившись. Чем утешишь товарища?
Неожиданно сзади раздался резкий женский смех:
— Ха-ха-ха! Приехали, басурманы? Ещё поживиться хотите? У-у!.. Ироды!
Арсен даже вздрогнул. Он уже слышал подобный безумный смех, когда ехал по приказу Серко из Сечи в Турцию. Тоже на разорённом дворище, тоже после татарского набега.
Так вот как встречает его родная земля…
Он быстро повернулся. К ним подходила пожилая женщина с горящими глазами на худом измученном лице. Косы распущены, в них колючки репейника; видно, ночевала она в бурьяне.
— Проклятые! Все разорили! Всех забрали, поубивали! А теперь ещё и любуетесь нашим горем, нехристи! — Женщина подняла вверх скрюченные руки и шла прямо на них. — Убейте и меня, ироды, чтоб мои очи не видели этого горя!..
Только сейчас Арсен понял, что она приняла их за турок. Её ввело в заблуждение их одеяние.
— Мы не турки, мать! — бросился он к ней. — Мы свои! Из туретчины бежали… Вот и земляк ваш… Грива… вернулся.
Он указал на склонённую фигуру товарища.
Женщина недоверчиво оглядела незнакомцев и подошла к Гриве. Тот взглянул на неё мутными, невидящими глазами. Потом порывисто бросился к старой:
— Тётка! Тётушка Катерина!
— Степан!
Они обнялись.
— Где же… мои? — с трудом выдавил Грива.
Женщина уныло глянула на пожарище, на стоящих молча возле неё людей, и вдруг её вид начал меняться на глазах. Губы болезненно скривились, глаза наполнились слезами.