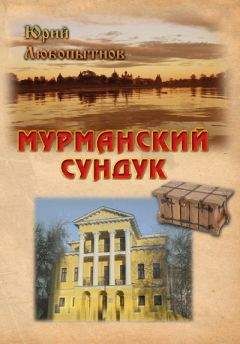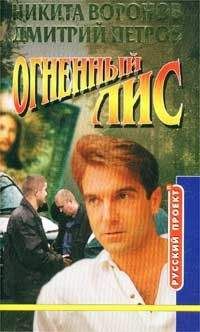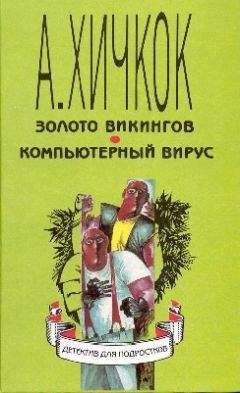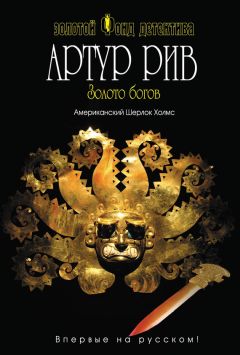Юрий Любопытнов - Огненный скит
С того времени и началось моё знакомство с Казаковым — недолгое, увы, продлившееся чуть больше трёх лет, которым суждено было стать последними в его жизни. Я стал часто приходить к нему на дачу — в большой, крытый шифером, бежевого цвета финский дом с мансардой, стоящий в низинке недалеко от реки Яснушки, и Юрий Павлович несколько раз наведывался ко мне, и были прогулки по живописным окрестностям Абрамцева, и разговоры допоздна за чаем (да и не только за чаем, чего у ж тут, чаще за чем-нибудь «покрепче») — безыскусные, отмеченные мягким казаковским юмором, отличающим и его тонкую прозу, которые до сих пор звучат в памяти, но которые сегодня в точности, к сожалению, не припомню…
В тот январский морозный день, когда мы познакомились, Юрий Павлович пошёл проводить меня от академического посёлка, где был его дом, до Абрамцева; на даче было холодно и неуютно — уголь кончался, Юрий Павлович старался его экономить, как мог, но в такие холода топить печь приходилось непрерывно, круглые сутки. Казаков был хмур и простужен; сетовал, что собирался с матерью не оставаться на зиму за городом, и остались всё-таки, и холода застали врасплох, пришлось просиживать ночи напролёт возле печи, поддерживать огонь, опасаясь, что дом вымерзнет и тогда его не протопишь.
Мы шли по узкой дорожке, протоптанной среди сугробов, и Казаков, зябко нахлобучивая поглубже ушанку, говорил о тепле, вспоминал недавнюю поездку в Гагру, то и дело кашлял, хватаясь за грудь. Повторял, словно извиняясь:
— Х-холодно в доме. А я, знаете, т-тепло люблю.
Он всегда говорил чуть заикаясь, и это было обычно не очень заметно, но тогда, на холоде, голос Казакова, казалось выдавал, насколько сильно он продрог.
Признаться, не таким я ожидал увидеть писателя, о котором по его книгам заранее сложил представление как о человеке, пренебрегающим жизненными удобствами, любителе путешествий. Казаков будто прочитал мои мысли:
— Вон в том доме, — он кивнул в сторону, — живёт один очень интересный человек, океанолог. Он часто в плавание уходит, надолго, на несколько месяцев, иногда и на полгода. Хочу вот напроситься к нему в экспедицию, может, возьмёт. Правда здоровье у меня теперь не то стало…
И замолчал расстроено, надолго ушёл в себя. И только когда дошли до Абрамцевского музея — оживился:
— Перед тем, как купить здесь дом, я жил на Оке, в Тарусе. Корни мои там. Я тоскую, глядя в окно…Не понимаю, когда некоторые писатели говорят, что им всё равно, где жить, уезжают… Как отсюда можно уехать? — не понимаю. Вот и Абрамцево — место гениальное: простор, леса направо и налево. Живя в Гагре и пиша (он так и сказал — «пиша») рассказ «Во сне ты горько плакал», я эти места вспоминал. Мой дом вы видели, большой слишком, для жилья не очень-то уютный, но это моё гнездо. — И пошутил: — Доведётся вам когда-нибудь воспоминания писать, так и начните: «Юрий Казаков — писатель земли русской, житель абрамцевский…»
Прощаясь пригласил:
— Вы приходите… — поправился тут же: — Не из-за угля, конечно, так приходите. Лучше в выходные, в субботу или воскресенье…
В первую же нашу встречу Юрий Павлович сразу потребовал показать ему рассказы (рукопись я, конечно, с собой прихватил, но сам навязывать её бы не стал). Казаков был настроен решительно:
— Давайте-давайте. Для молодого литератора самое страшное — это вариться в собственном соку. Среда нужна: она для него, как земля для корней. Я сам в литературный институт после войны поступил, молодым совсем, и, честно говоря, очень многое, и литературу в частности, знал дилетантски. Институт, конечно, меня подучил, помог кое в чём разобраться, но главное — дал среду, общение с такими же молодыми прозаиками и поэтами. Радость бесконечных бесед о литературе — прямо в коридорах, на подоконниках в перекурах, — до хрипа, до потери голоса, до того, что друзья становились чуть ли не врагами. И на семинарах, само собой. Те же товарищи так тебя раскритикуют, так разберут твои рассказы, что, бывало, подумаешь: «Да твоё ли это дело — писать? Может, и за перо вообще зря взялся?!» После обсуждений многие вещи правились нещадно, переписывались, даже в корне менялись…Сумеешь не сгореть в этом горниле — станешь писателем. Писателю нужно большое терпение, воловье здоровье и ещё — мужество, потому что будут и огорчения, и срывы, и творческие неудачи, а это всё надо пережить, не сломаться…
Беря хилую стопочку моих рассказов, неодобрительно покачал головой: немного, дескать, надо работать больше. Я что-то пытался сказать в своё оправдание, сетуя на нехватку времени: текучка заедает.
— Писателю всегда что-то мешает, — хмуро сказал Казаков. — А надо писать и писать, пока время не ушло. На время что ссылаться! Его никогда не будет хватать. Я ведь как начинал. Комната в коммунальной квартире, теснота — машинку поставить некуда; сижу на диване, пристроив её на коленях и тюкаю себе. А то ещё к отцу приятели придут — выпьют, пойдут разговоры… Мешают тебе, а писать надо. Так и писал. Литература, как и всякое искусство, требует от человека полнейшей самоотдачи. Ей или надо заниматься сверхсерьёзно — или не заниматься вовсе. Других путей нету…
Казаков много курил; в разговоре забывал о папиросе, сердясь гремел коробком, прикуривал и долго махал спичкой, пока она не гасла. Задумчиво глядя на тлеющий кончик папиросы, продолжал:
— Я против опеки, против того, чтобы «маститые» писатели «проталкивали» начинающего. Но я не против совета, наставления, близкого общения. Иногда одного слова старшего товарища бывает достаточно, чтобы поддержать тебя, ободрить. Помню, я однажды навестил в больнице Панфёрова. Настроение у меня было прескверное: был раздосадован тем, что в журнале давали мой рассказ, изменив заголовок. Я целый год вынашивал это название, мучился над ним, а когда придумал наконец — обрадовался, и представить себе не мог, что рассказ будет назван как-то иначе.
Панфёров был очень болен, но терпеливо меня выслушал, не перебивая, а потом успокоил: «Брось ты расстраиваться по мелочам. Главное для тебя сейчас — что рассказ печатают. Когда будешь его переиздавать, вернёшь прежнее название. А может, пройдёт время, и ты убедишься, что в редакции были правы, настояв на своём, что твоё название не созвучно времени…» Тогда я слова Панфёрова воспринял довольно скептически, но прошло время, и я понял, что он оказался прав: название рассказа я так и не переменил… А Трифоныч, Твардовский, разговоры с ним!.. До сих пор их вспоминаю! Вот кто отлично знал литературу и нашего брата. А как он мог говорить! — да это пересказать нелья, это надо было слышать…
Казаков всегда много рассказывал о старших товарищах — писателях, которых любил и перед которыми преклонялся, — о Твардовском, Паустовском, Светлове. И воспоминания его всегда были полны юмора и сердца. Свои рассказы он расцвечивал мельчайшими деталями, множеством параллелей и отступлений. Подчас отступления уводили его далеко от начатой темы, и тогда он спохватывался, возвращался к прежнему разговору, и снова уходил «в другую степь», увлекаясь.