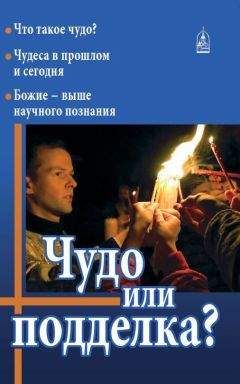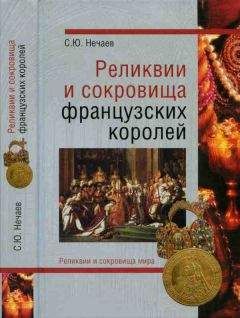Пип Воэн-Хьюз - Реликвии тамплиеров
«Добрый совет, как и всегда, дорогой мой дружок», — подумал я. И тут же осознал: Билл мертв, лежит в канаве, где-то по ту сторону города. Грудь пронзила новая боль, словно, пока я спал, мне вырвали часть внутренностей. И теперь образовавшаяся кровоточащая пустота заполнилась горем и сознанием собственной ужасной вины. Не будет больше у Билла ни пива, ни шлюх, никогда он не засмеется и не полезет в драку. И никакой Франции не увидит, и я уже не увижу его хитрющую улыбку. Я упал лицом в мокрую траву, и перед внутренним взором проплыло его лицо, безжизненное и бледное, каким оно стало в тот момент, когда Билла настиг кистень сэра Хьюга. Это я его убил, точно я, как будто моя рука нанесла ему смертельный удар: это за мной Смерть гналась от самого кафедрального собора. А что с сэром Хьюгом? Я вроде бы помнил, как на него навалился конь, когда мы упали в реку. Тоже, наверное, мертв, решил я, — сумасшедший, настигнутый собственным безумием, и его игра закончена. Вместе с моими надеждами. Сомнений нет: эти два трупа тоже запишут на мой счет. Приближалась ночь, и я ощутил, что Смерть, как стародавний приятель, уже пристроилась рядышком, чтобы неусыпно бдеть до самой зари.
На заре заливные луга восхитительны — наряжены в сверкающие серебристые одежды, на фестонах из паутины поблескивают капельки росы, в зелени травы пестрят яркие пятна цветов. Огромные красноватые туши домашнего скота бредут сквозь эту сверкающую всеми цветами радуга пелену, не замечая ее. Должно быть, я крепко спал: пауки успели сплести вокруг меня настоящую сияющую пелерину. Город был совсем близко: до крайней лачуги квартала кожевников меньше мили.
Но мрачное настроение вчерашнего вечера немного оставило меня. Я уже не утопал в сплошном отчаянии. Может, стоило пожить еще немного, хотя бы для того, чтобы оправдать гибель Билла. И не слишком ли долго я здесь торчу? Я еще раз обдумал свое положение. У меня была золотая реликвия и одежда, подсохшая, но отнюдь не роскошная. Если не считать тонзуры, выглядел я как крестьянин, привыкший ночевать под живой изгородью, — и вот вам, к примеру, такая история. Я — сын фермера, продавший шерсть на одной из ярмарок, что устраивают в центральных графствах Англии. А теперь возвращаюсь домой. По дороге на меня напали воры, я лишился всех денег, а безденежье, как известно, вынуждает ходить пешком. Стало быть, я возвращаюсь домой, по крайней мере двигаюсь в сторону дома. В Лондон мне тащиться, как выяснилось, не хотелось. Из куска полотна, оторванного от обмоток, я состряпал себе вполне приличный головной убор, и когда обвязывал им свою выбритую макушку, меня осенило. На свете есть только один-единственный человек, который может мне сейчас помочь. Я повернул на запад и тронулся в долгий путь назад, к брату Адрику.
Нас разделяло немало земель. Мендипские пустоши, Седжмур, Блэкдаунские холмы. Я шел ночами, при лунном свете, когда вокруг были люди, и днем, если двигался через пустынные места. Это было длинное и тяжелое путешествие, но рассказывать особо не о чем. Я питался ягодами, ловил рыбу в ручьях и разное мелкое зверье. Я ведь родился и вырос в Дартмуре, так что голодным на воле никогда не останусь. Однажды мне явилась фортуна — в образе полусумасшедшего возчика, позволившего мне ехать на своей раздолбанной старой повозке, на мешках с пеньковыми оческами, предназначенными для верфей Плимута. Он не хотел брать с меня денег, что было весьма кстати. Думаю, что возчик, совершенно свихнувшийся на всяких суевериях, принял меня за бродячего демона и помогал исключительно с целью предотвратить любые несчастья, которые я могу на него навести. Мы повстречались на перекрестке дорог около Калломптона, и он довез меня почти до места.
Итак, я в течение двух недель пребывал наедине со своими мыслями, пока не пересек Сомерсет и половину Девоншира. В моем распоряжении было гораздо меньше возможностей, чем мне бы хотелось, чтобы как следует поразмыслить над своим недавним прошлым, но я без конца перебирал в уме все эти кошмарные события, и в итоге их острота и ужас несколько померкли. Казалось, не проходило и минуты, когда бы я не думал о Билле, о том, что мы могли бы вместе переживать столь романтическое приключение — хотя в моем положении не было ничего романтического, — и всякий раз эти мысли пронзали меня как удар ножом. Его смерть и, надо думать, близость моей собственной преследовали меня грозной тенью, неся с собой ледяной могильный холод. Чтоб отвлечься, я думал о прошлом. Вот он я, молодой человек, ни с того ни с сего утративший все надежды на будущее и лишенный привычной жизни. У меня ничего не осталось, только моя история, и я все пересказывал ее сам себе, потому что это приносило утешение, когда надежда почти исчезала, становилась призрачной, как паутинка, плавающая в тумане неясной зари.
Молодой человек, действующий в этой истории, — это я сам, однако, повторюсь, он отличается от меня, как червяк от бабочки. Хотя я толком и не знаю, что представляю собой нынче — червяка или бабочку. Ладно, хватит об этом. Глаза, прищуренные на ярком летнем солнце, всего миг хранят изображение мира, которое потом меняется, становится гротескным, превращаясь в колеблющееся пятно тьмы и сияющих узоров, издевательски пародирующих реальность. Хотелось бы сохранить этот самый первый миг, пока уродливые образы настоящего не заслонили собой прошлое.
Я родился в тысяча двести семнадцатом году от Рождества Христова, на втором году царствования Генри Плантагенета[14], в деревне Онфорд в южной части Дартмура. Мне дали имя Петрок — в честь святого покровителя нашей деревни и моего деда. Отец мой, как и его отец, был йоменом, мелким свободным землевладельцем, и разводил овец, стада которых свободно паслись на высоких пустошах, на общинной земле, что начиналась сразу за нашим домом. Сам дом, низкий и длинный, был сложен из гранитных глыб цвета лисьего хвоста и стоял на южном склоне на расстоянии выстрела из лука от собственно деревни. Вдоль левой его стены бежал ручей, а ниже струилась река Он, петляя между огромными, обкатанными водой утесами и высокими дубами. Вода в ней была прозрачная и коричневатая, там водились золотисто-зеленые форели, прятавшиеся под камнями, когда я пытался их схватить, а иногда встречались и большие лососи, которые звучно плескались и били хвостами на мелководье с наступлением ночи.
Жители низин боятся холмов и гор. Горы и вересковые пустоши, которые они, наверное, никогда не видели даже издали, для них — пустые пространства, где бродят всякие чудища, поджидающие незадачливых путешественников. Но наши пустоши отнюдь не пустовали. По заросшим высокой травой пастбищам бродили овцы, а долины и овраги являли собой свидетельства непрестанных забот и трудов человека. В руслах ручьев имелись залежи олова, меди и мышьяка, и люди из Онфорда копали руду, чем занимались здесь с начала времен или по крайней мере со времен Всемирного потопа. Наша деревня находится во владениях аббатства Бакфест, но лорда у нас никогда не было, так что здесь искали убежища безземельные, те, кто бежал от своего прошлого или будущего, чреватого крепостной зависимостью и феодальными повинностями. В результате жители деревни были людьми молчаливыми, крайне независимыми и такими замкнутыми и самодостаточными, как это бывает только в закрытом монашеском ордене. Те, кто не занимался землепашеством в долине и не гонял овец на вересковые пустоши, работали в шахтах, добывая олово, и были самыми богатыми и сильными.