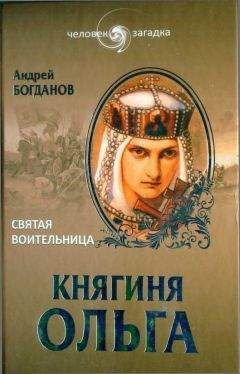"Княгиня Ольга". Компиляция. Книги 1-19 (СИ) - Дворецкая Елизавета Алексеевна
На третий день отца Ставракия похоронили под полом Софийской церкви – это была единственная в Киеве освященная земля, достойная принять его, а к тому же Эльга опасалась, что на ином месте над могилой надругаются. Панихиду по нему служил отец Гримальд. Отец Агапий всю ночь читал над телом греческую Псалтирь, но, будучи спрошен о панихиде, смиренно заверил, что без благословения не может надеть облачения, а кто же его благословит, когда папас мертв? Отец Гримальд умел служить только на латыни, но Эльга сочла, что Господь разберет и так. Однако лица Предславовой чади, явившийся проводить своего папаса, выражали явное недовольство.
Слушая латинское пение двух клириков, Эльга пыталась молиться, но сбивалась и просто вспоминала, как впервые увидела отца Ставракия, как он показал ей ларец с мощами святых Кирика и Иулиты, присланных ей патриархом, как рассказывал о подвигах их веры… И еще кое о чем, что она слушала еще охотнее.
«Ты так хорошо говоришь по-славянски, похоже, что этот язык тебе родной, – однажды заметила Эльга; отец Ставракий разговаривал с киянами без толмача. – Ты родом из Фракии? Из Болгарского царства?»
«Нет, госпожа, мои предки были переселены в Вифинию из Солуни несколько веков назад – при Юстиниане августе. Они называли себя сагудатами, а ромеи зовут их слависианами. Они живут в стране Никомидийской своими общинами и даже имеют своих священников, хотя, разумеется, давным-давно уже исповедуют Христову веру, как и все жители Романии».
Эльга кивнула: о слависианах она слышала от своего брата Хельги Красного, который двадцать лет назад в Никомедии свел с ними близкое знакомство.
«Страна Никомидийская, ты сказал?»
«Да, архонтисса. Я родом из самой Никомедии. В то время как ее заняли войска твоего родича, архонта Эльга, я был ребенком, но помню те дни и даже, – отец Ставракий слегка засмеялся, – мне кажется, помню его самого, хотя не поручусь за свою детскую память. Мне тогда не было и десяти лет, а ты знаешь, как это водится у детей: они услышат что-то либо сами придумают, а потом сами себя уверят, будто видели своими глазами».
«Но каким ты его запомнил – моего брата Хельги?»
«Я видел – как мне кажется, – как по городу проезжал человек высокого роста и мощный, как Геркулес. У него были длинные волосы, широкая грудь, а на горле большое пятно кровавого цвета. Нам рассказывали, будто он – живой мертвец и ходит с перерезанным горлом, но мы не хотели в это верить, и я поспорил с соседскими мальчишками на десять самых сладких фиг с дерева тетки Василики, что подожду на пути, где он проедет, и посмотрю сам. И, клянусь головой апостола Иоанна, я видел это пятно крови у него на горле!»
«О да! – заверила Эльга. – Твое воспоминание совершенно правдиво. У моего брата было на горле родимое пятно цвета крови. Оно достигало груди и кончалось вот здесь, – она коснулась своей груди под ямкой между ключицами. – И я слышала, что именно сюда, в горло, ему попала сарацинская стрела, когда он погиб на Хазарском море, – с грустью, понизив голос, добавила она. – Это родимое пятно было предсказанием. Но мой брат прожил доблестную жизнь, хоть и не очень долгую, и оставил о себе славную память».
Тогда ей было и грустно, и приятно услышать это воспоминание – словно получить привет от любимого брата, которого уже много лет не было в живых. И вот ушел еще один человек – свидетель его доблести, унес эту частичку воспоминаний…
Ночью после похорон Эльга проснулась от криков за оконцем. Послала девок узнать, что еще случилось.
– Церковь горит! – доложила Живея, вернувшись в избу.
Эльга быстро оделась и вышла к воротам, встала возле толпившейся челяди и хирдманов. Со Святой горы хорошо было видно бушующее внизу пламя. Церковь Софии пылала купальским костром, жители окрестных дворов поливали водой свои тыны, ворота и крыши от летящих искр. Эльга принялась молиться: в разгар лета соломенные крыши сухи, от одной искры займутся.
– На соседей не перекинулось бы… – бормотали вокруг. – Этак полгорода выгорит.
– Вот этого не хватало…
– С чего же загорелось-то? Там заперто, свечей не жгут больше.
– Моравы подожгли – латыняне, мол, осквернили своей службой латинской.
– Истовое слово – латинского пения душенька Ставрова не снесла.
– Видать, сам папас и пришел по себе службу поминальную петь, – сказал чей-то веселый голос. – А как отпел – ну и гори все синим огнем, все равно петь больше некому!
И правда, подумала Эльга. Настоящих служителей греческой веры в Киеве больше нет. И церкви нет. Была у нее София, маленькая, да своя – недолго и простояла. Ростки веры христианской, что она пыталась взращивать в эти годы, вытоптаны безжалостной судьбой. Пламя пожара отражалось в ее блестящих от слез глазах – казалось, все ее усилия напрасны, не войдет Русь в число полноправных уважаемых держав. Так и будет считаться у соседей буйной дружиной варваров. А нынешний русский князь только того и хочет.
Эльга даже по-настоящему не задалась вопросом, отчего церковь загорелась. Бережатые у нее за спиной толковали, мол, людишки киевские подожгли со страху. Убоялись гнева богов и спешат стереть всякий след чужой веры. Но Эльге казалось, сама кровь отца Ставракия подожгла церковь, не могла София устоять после такого злодеяния. Как древние вожди северных дружин отправлялись в Валгаллу на пылающих кораблях, со всеми своими сокровищами, так отец Ставракий, приняв кончину мученическу, в горящей церкви отплыл в царство божие, унося библосы, священные сосуды и служебные облачения. Эльгу так захватила эта мысль, что слезы высохли, а сердце защемило от режущей, горькой красоты поворота.
По-прежнему было неясно, кого винить в несчастьях. Немцы как нарочно заручились надежными свидетелями своего мирного сна в ту ночь, у жидинов, при всем желании их обличить, не нашли ровно ничего, что указывало бы на причастность. На всякий случай гриди вытащили из домов и пожгли на пустыре все жидинские пергаменты, какие нашли, не разбирая, где учение веры, а где долговые записи, и обрели некое удовлетворение в мысли, что лишили злодырей возможности творить чары. Жидины сидели тихо, радуясь, что главными виновниками признаны бесы, а они отделались разорением дворов. Тому костру через ночь откликнулся костер церкви, а дальше что? Через пару дней предстояло поджигать купальские костры, но Эльга с ужасом думала об этом. Казалось, уж в них-то и сгорит белый свет без остатка. Святилище осквернено, церковь сгорела – все боги, старые и новые, отвернулись от киян! Но за что? Жили как всегда, никакого зла особенного не творили. Неужели меч Хилоусов был не благословением, а проклятием, золотой ловушкой, и выход его на свет знаменовал великие бедствия?
Наступивший день подтвердил ее опасения. Догорающую церковь загасил ночной дождь, и утром он все еще капал, но запах дождя не мог заглушить гарь: на спинах ветров она разлеталась, расползалась, растекалась по всему Киеву, по горам и предградьям. В полдень к Эльге на двор явился Святослав с малой дружиной – десятком бережатых и боярами. Асмунд, взглянув на Эльгу, лицом изобразил виноватое бессилие: ничего не могу поделать. Он был кормильцем племянника и сохранял на него известное влияние, но часто бывал вынужден уступать упрямству и решительности князя.
– Нашли что-нибудь? – спросил Святослав, будучи введен в гридницу и усажен.
– На бесов люди сказывают, – с досадой ответил Мистина. – Да еще вот говорят, что без головы человечьей не было б в мече истинной силы, потому…
– Ну? – Святослав взглянул на него с прямым вызовом. – Договаривай.
– Что кому тем мечом владеть, тому и голову за него положить. Человечью.
– Веришь?
– Нет. Я знаю, что тебя учили приносить людей богам. Если бы ты жертвенной кровью свое право на Хилоусов меч выкупал, то сделал бы… как полагается. И меча бы не искал. Он был бы у тебя.
– В нужную сторону мыслишь, – одобрил Святослав, который тоже все эти дни размышлял со своей дружиной над случившимся. – В Киеве два человека могут приносить людей богам. Это я – и ты. Откуда у тебя это право? Оно ж только князьям дается.