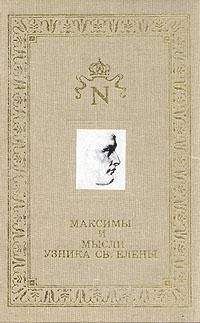Вера Космолинская - Коронованный лев
Я не сразу уловил окончание этой речи, увлекшись воспоминаниями о том, что рассказывал дед о битве при Павии. И только через несколько секунд понял, что именно было сказано.
— То есть?.. Нравится ли? — уточнил я, совершенно сбитый с толку и не знающий, на каком я свете. Хотя не знал я этого с самого утра.
— Именно так. Мы все равно не можем сказать с уверенностью, что все, что мы помним — истина в последней инстанции и следовательно, нет никакого смысла стремиться соблюсти все до точки. Мы не можем предсказать, какое из наших действий приведет к нужному или ненужному исходу. Значит, остается действовать так, как нам покажется справедливым и наилучшим.
— А, вот как… Тогда что, если попробовать отменить Варфоломеевскую ночь? А не помогать ей совершиться, если она вдруг этого не пожелает?
— Почему бы и нет, если получится. — Он сказал это почти легкомысленно, как само собой разумеющееся.
Я не сел, а почти упал на софу, задев прислоненную к ней гитару, и она гулко зазвенела. В голове у меня лихо кружилось, и отнюдь не от недавнего хереса.
— Только не увлекайся, — предупредил отец. — Нам не стоит делать первый ход по причинам, которые мы оба прекрасно понимаем. Мы оба их только что высказали.
Да. Кому это будет на руку?
— История или не история, — проговорил я медленно. — Рушится мир или нет, правильно или неправильно. Просто «делай, что должен, и будь, что будет». Старый рыцарский закон. Это единственное, что остается.
Отец усмехнулся.
— Ну что ж, — сказал он, — и если завтра после этого разговора мы не проснемся инфузориями-туфельками, есть некоторый процент вероятности, что этот эксперимент учинили не самые последние мерзавцы на свете.
— Не знаю, может и это возможно. — Голова у меня все еще кружилась каруселью, но стало легче. Действительно, стало.
Отец пристально посмотрел на меня и испустил легкий, почти не слышный смешок.
— Нет, все-таки не Ван-Дейк, — сказал он с уверенностью, и меня разобрал смех.
IV. «Семь дюжин шотландцев»[5]
Ночь на одиннадцатое августа тысяча пятьсот семьдесят второго года выдалась бессонной. А чего еще следовало ожидать? Конечно, ожидать можно было чего угодно — от внезапного попадания в последний день Помпеи или разгар гибели Атлантиды до четверых всадников Апокалипсиса, ломящихся в замковые ворота и прилета марсиан. И зачем я только ложился? Через час воображаемых кошмаров я вскочил и, так же как утром, высунулся в окно, на свежий, теперь уже ночной воздух. Вверху всевидящим оком сияла луна, серебря знакомые, родные места, данные нам всем по случайности, но отнюдь не как данность. Меня мутило. Подозреваю, что далеко не меня одного, но сбиваться посреди ночи в стаи было бы и странно и бессмысленно. Или мы с этим справимся или нет. Или это будет иметь какое-то значение или никакого… Я ненавидел весь мир и в то же время, чувствовал, что — запоздало — люблю его. Но люблю таким, к какому привык, а не таким, каким он оказался или может оказаться. А может быть и это ложь. И таким он мне тоже отчаянно нравился, может быть, даже больше, чем прежний. И все-таки, я его ненавидел, потому что чувствовал, что обречен, что ничего не значу, даже моя мысль, моя память могли принадлежать кому угодно и это приводило в бешенство. Я и раньше-то был порядочным безбожником, но одно дело подходить к таким вещам философски, а другое ощутить на деле всю эфемерность вещей и состояний. И все еще при этом «быть». А кто сказал, что небытие может быть чем-то лучше? Вот уж нет!
Пометавшись запертым зверем по одной комнате, я перешел в соседнюю, одну за другой зажигая свечи. Десятка будет достаточно? Ладно, хватит и трех. Иначе темнота душила как подступившая смерть, и призрачный лунный свет ничуть не спасал. «Cogito ergo sum»[6]. Возможно. А что еще можно противопоставить пустоте? Чувство? Эту тоскливую ненависть и отрицание происходящего? Гитару, которую я разобью о стену, если только возьму в руки? Каравеллы Колумба?.. Да разве все смертные в итоге не в том же положении?! Я покачал головой и, смахнув с середины стола книги и уже исписанные бумаги, отыскал чистый лист, открыл чернильницу, в которую со злостью вонзил перо, а затем выплеснул чернила на бумагу яростными росчерками. Рифмы? К дьяволу рифмы! И вообще все к дьяволу!
Ярости жизни, той, что дана умирающим —
Нам не постигнуть?!
Той зоркости ясной, что все для слепца —
Нам не понять ли?!
Музыка сфер, что глухому бывает доступна —
Нас не разбудит?
Пламени вечности, холода тьмы и свободы —
Нам не достигнуть?
Будем мы слепы, будем мы глухи и мёртвы, —
Нет здесь секретов.
Вечность и холод и тьма, пустоты совершенство —
Это нам данность.
Все мы — огонь, все мы — смерть, все мы — ужас пространства —
Космос и косность.
Мы — песня, мечта, вдохновенье, дерзанье эфира, —
Свертка материи: Сына, Отца, Духа,
Черта.
Неожиданно я успокоился на последних строках и задумался. Перо не полетело в угол. Ничто не было разбито. Что ж, пусть все будет, как будет, там поглядим, в какой бы точке пространства и времени мы ни были. Я задул свечу на столе, погасил остальные и вернулся в постель, рухнув в нее, как убитый. Пусть ненадолго, но я опустошил себя до донышка. Все, что я могу противопоставить хаосу — это только чернильные строчки.
Мишель бодро вломился в дверь, едва я закрыл глаза, что-то насвистывая, с «ушатом холодной воды» и обычной жуткой бритвой, невольно наводящей на мысли, что при желании и хорошей организации все революции на свете могли бы происходить легко, молниеносно и без лишнего шума.
— Оливье ждет во дворе, как обычно, — сообщил Мишель так, будто продолжал прерванный минуту назад разговор. Сразу вслед за этим раздался звук энергично проводимой по оселку бритвы.
Абсурд. Какого черта он притащился среди ночи? Я безуспешно попытался разлепить веки. Ага. Нет. Все-таки, разлепились. В комнате было светло. Значит, это не ночь… я со стоном уронил свой нос снова в подушку.
Чудовищно. Хотя, бывают утра и похуже, но все-таки, достаточно чудовищно. Если уж говорить начистоту, утро — это просто катастрофа вселенского масштаба, разбитая на часовые пояса.
— Угу… — отозвался я вялым приветом с того света, пытаясь вспомнить, кто такой, черт побери, этот Оливье, и что это он делает во дворе. Ах да, конечно, это же наш комендант и мой учитель фехтования. А где он был вчера, если «как обычно»? Глупый вопрос. Вчера же было воскресенье.