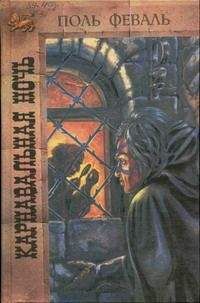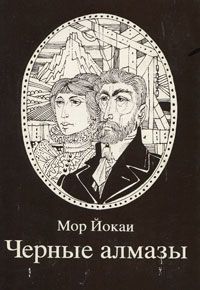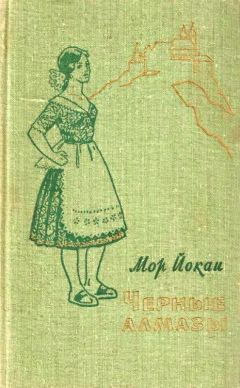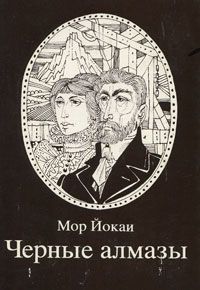Поль Феваль - Черные Мантии
Издалека насмешливым эхом доносились радостные и мелодичные звуки.
Андре Мэйнотт прибавил:
– Этот человек не станет защищаться. Он играл ва-банк. Он проиграл. Он мертв.
Полная неподвижность Лекока, казалось, подтверждала это суждение. Оба же свидетеля, советник и бывший полицейский, были буквально заворожены этой странной сценой. Начальник подразделения префектуры, по натуре более робкий и консервативный, безмолвно искал поддержки у господина Ролана: советник обладал умом более гибким, а вояжи по министерским коридорам сделали его склонным к компромиссам.
Оба в равной мере испытывали живейшую потребность опровергнуть Андре Мэйнотта. Никто не вправе назначать себя судьей, особенно судьей своего собственного дела. Господин Ролан и господин Шварц признавали только суд людей в черных или красных мантиях, восседающих в зале под распятием, в присутствии присяжных и зрителей.
Суд – это закон, порядок и право обжаловать приговор.
Здесь – ничего подобного. Двери плотно закрыты, зрители – они же свидетели – отгорожены от зала решеткой, арбитр всего один, и его нога стоит на горле обвиняемого. Однако свидетели хранили молчание.
У них были честные сердца; но хотя один был отважен, а другой обладал сугубо мирным характером, оба в равной степени были рабами общепринятых понятий и представлений: за тридцать лет государственной службы многие привычки стали, как говорится, второй натурой этих людей.
Оба были потрясены разыгравшимися перед ними событиями; открывшиеся обстоятельства дела предвещали грандиозный судебный процесс. Однако еще больше они были взволнованы воспоминаниями о той давней драме, где каждый из них сыграл свою роль и которая получила развязку только сейчас, в присутствии двух основных ее актеров, и с главным реквизитом.
Сейф Банселля и резной поручень: немой голос этих двух предметов звучал громче человеческих голосов. Тут в тишине снова раздался голос Андре Мэйнотта:
– Надеюсь, настоящее прояснило вам прошлое? – спросил он, обращаясь к свидетелям.
И так как они колебались, Андре прибавил:
– Ночью четырнадцатого июня тысяча восемьсот двадцать пятого года этот человек проник ко мне в дом на пощади Акаций в Кане и украл у меня поручень, с помощью которого он совершил преступление – ограбил сейф. Надеюсь, это теперь доказано?
– Да, – тихо ответили оба судейских чиновника, – мы считаем, что это доказано.
– В этом ограблении – продолжал Андре Мэйнотт, – суд присяжных в Кане обвинил меня; также он признал моей сообщницей мою жену. Его приговор до сих пор тяготеет над ней и надо мной.
– Мы сделаем все… – в один голос воскликнули оба свидетеля.
Не терпящим возражений жестом Андре Мэйнотт остановил их.
– Есть раны, – произнес он, – которые ничто не может излечить, а я перестал доверять докторам.
Затем он продолжал:
– Там, где я родился, на острове Корсика, есть разбойничий притон; никто из тех, кто по долгу службы обязан защищать наших сограждан, никогда не сможет обнаружить его. Прежде чем умереть, я покажу им его, и таким образом воздам вашему обществу добром за зло.
История, завершившаяся здесь, началась не в Кане, все началось на моей родине. Однажды вечером этот негодяй, известный среди себе подобных под именем Приятеля-Тулонца, оскорбил благородное юное создание, в которое я был безнадежно влюблен. Я вступился за девушку. С тех пор он возненавидел меня. Его страсти всегда были порочны; когда нашлась женщина, уступившая его притязаниям, он отдал ее другому.
Юное создание была Джованна Мария Рени, из семейства графов Боццо, иначе Жюли Мэйнотт, баронесса Шварц, словом, ваша жертва, господа, ибо вы толкнули ее на дорогу, ведущую к погибели.
Не перебивайте меня. Я знаю, что вы порядочные люди: именно потому, что я это знаю, вы сейчас находитесь здесь и сделаете то, что подскажет вам ваша совесть.
Но я тоже был порядочным человеком; моя жена была порядочной женщиной. Женщину погубили; мужчину обрекли на адские муки, потому что суд, состоящий из порядочных людей, по чести и по совести вынес приговор, с которым согласились двенадцать присяжных, тоже люди порядочные… Я больше не доверяю никому.
Чтобы покарать того, кого я ненавижу, и спасти тех, кого я люблю, мне не требуется иного судьи, кроме меня самого.
У меня есть сын, чья юность благодаря вам была незаслуженно суровой. У меня больше нет жены, хотя Жюли Мэйнотт и жива. Я люблю ее всеми силами своей души; она всегда любила только меня. Но теперь между нами зияет огромная пропасть.
Она была молода. Среди ваших наказаний есть кары страшнее смерти. Разве не вы сказали: «Лучше бы эта воровка убила себя»? В трупе, найденном на речном берегу, опознали меня; она поверила, что стала вдовой: а теперь разве не вы первые бросите камень в эту женщину; вступившую во второй брак при живом муже?
Она замужем за двумя мужьями; она воровка! Она, Жюли, святая любовь моей юности! Языческие идолы были слепы и глухи. Разве живой Господь мог бы допустить столь роковое стечение обстоятельств?
Ваш закон дважды ополчился на нее: как на воровку и как на нарушительницу брачного закона. Человек, который лежит здесь, у меня под ногой, об этом знал. Он читает ваши кодексы едва ли не чаще вас самих. Ваши книги – это и его книги. В его руках ваш закон превращается в удавку, набрасываемую им на шею своих жертв.
Человек этот свободен и могуществен; если вы станете просматривать ваши реестры, вы быстро убедитесь, что вам он ничего не должен. Если бы меня сейчас здесь не было, четыре миллиона, находящиеся в этом сейфе, лежали бы у него в кармане, а сам он был бы уже далеко. Правосудие вновь было бы введено в заблуждение, а невинные люди, среди которых и оба ваших сына, вновь расплатились бы за ошибки судей. Вы думаете, что у него были сообщники? О! Разумеется, целая армия сообщников.
Значит, дележ уменьшит его долю!
Никакого дележа! Здесь, в крови, что стекала с его руки, лежат четыре толстые кипы, последнее достижение изощренного ума. Это четыре миллиона: четыре миллиона фальшивых банкнот, предназначенные для Черных Мантий. Этот человек предал ассоциацию, предал, не опасаясь, что имя предателя будет раскрыто, ибо в этом деле у него был только один соучастник: Трехлапый. Калека, урод, нелепое существо, которое, словно змею, убивают ударом каблука. Я не должен был встретить утро завтрашнего дня.
А завтра, с гордо поднятой головой, он бы проследовал своим путем, в стороне от поднявшейся шумихи, в то время как безвинные и виноватые стали бы биться в ваших сетях, запутываясь в них все сильнее и сильнее. Он уверен даже в тех, кого предал. Никто не произнесет его имени, все будут уповать на него как на спасителя. До самых ворот каторги, до самого подножия эшафота они будут надеяться на него, верить в него; их падение еще выше вознесет его авторитет.