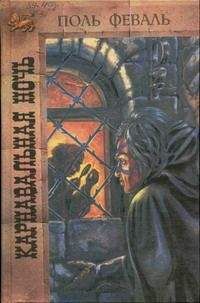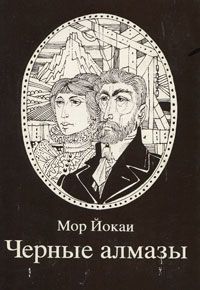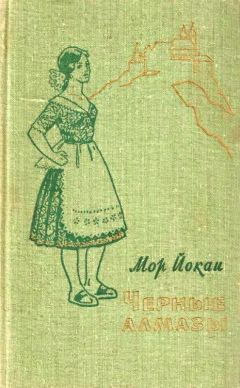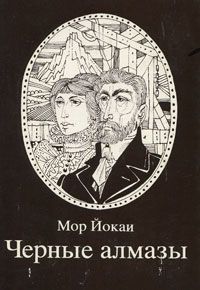Поль Феваль - Черные Мантии
А за пересудами, которые продолжались изо дня в день, не было, как ему подсказывала совесть, ничего такого, в чем его можно было бы обвинить.
В таком случае что же могло приковать его внимание? Ведь он столь снисходительно и даже пренебрежительно относился к иным жителям Кана и их заботам, он был чужим в этом городе и готовился вскоре покинуть его навсегда.
И тем не менее он слушал; упоминание его имени давало ему на это право.
Рабочий, мастеривший навес, ушел. Голоса на верхнем этаже смолкли. Затем разговор возобновился, но теперь обсуждали нечто, не имевшее отношения к Андре. Было прохладно, и желание слушать прошло. Он уже готов был снова лечь в постель, когда до его слуха долетела неожиданная фраза, произнесенная вполголоса:
– Я вам говорю, что он разорен, полностью разорен! Собирается пустить себе пулю в лоб.
Андре колебался. Говорил явно кто-то чужой, не комиссар, и не эльзасец Эльясен. Андре раздумывал ровно столько, сколько необходимо, чтобы решить, что он не вправе подслушивать чужие секреты. Разве у него не было своих дел? Тут раздался сердитый голос комиссара:
– Вы распространяете вредные слухи, и все это выйдет вам боком. Подобные люди держат у себя дома только деньги для срочных выплат по платежам.
Незнакомый голос отчетливо произнес:
– В кассе было более четырехсот тысяч франков в банковских купюрах.
Андре вздрогнул: эта цифра сказала ему все. Как раз накануне господин Банселль сообщил ему, что у него в кассе находится именно эта сумма.
Его не отпускал нервный озноб. Было ли это выражением сострадания к несчастью человека? У Андре Мэйнотта было доброе, великодушное сердце, но сейчас речь шла не о сострадании.
И хотя нам не ясно, почему, но Андре боялся. Итак: отчего этот молодой человек, само воплощение мужества, испугался, догадавшись, что кассу богатого банкира Банселля ограбили?
Мы часто предугадываем будущее, и значительным событиям предшествуют их приметы – так же, как серьезным болезням – симптомы.
У Андре Мэйнотта сжалось сердце.
Ему казалось, что он все еще слышит стоны в спальной комнате, которые его разбудили. В изнеможении он едва дотащился до двери. Ребенок мирно спал; молодая мать, разметав по подушке локоны роскошных волос, тоже спала, умиротворенная и прекрасная, как святая.
Андре протянул руки к этим двум дорогим ему созданиям. Он был бледен, он трепетал.
Мы говорили о предчувствиях. Все дальнейшее является не пояснением сказанного, а простыми фактами.
Город Кан, которому несколькими годами позже предстояло стать ареной страшной, ужасной трагедии – убийства часовщика Пешара, в 1825 году жил недавним судебным разбирательством по делу супругов Оранж.
Супруги Оранж, фермеры из Аржанса, в августе 1825 года были приговорены королевским судом Кана к смертной казни по обвинению в совершении преднамеренного убийства Дени Оранжа – их дяди по отцовской линии. Это было одно из тех тяжких дел, в которых крестьянская жадность играет главную роль. Ежегодно деревенская скаредность демонстрирует какое-нибудь новое издание известного сюжета: некий старый крестьянин имеет неосторожность завещать свое достояние племянникам с условием, что они будут его кормить, давать ему кров и заботиться о нем до самой смерти. Такой контракт содержит, естественно, одно негласное условие со стороны племянников, а именно: дяде не потребуется слишком много времени, чтобы отойти в мир иной. Когда же дядя допускает злоупотребления и задерживается в этом мире, ему перерезают серпом горло, а то и просто кидают в колодец. Каждый это знает, и тем не менее всегда находятся престарелые дяди, готовые воспользоваться опасным гостеприимством своих племянников.
Отвратительные подробности преступления обеспечили судебному процессу блестящий успех. Но публика все же сомневалась в виновности супругов Оранж, которые к тому же были совсем молоды: Пьер – крепкий парень, который мог зарабатывать на жизнь совсем иными средствами; Мадлен – милое наивное создание, и когда речь заходила о дяде, она могла только плакать.
Смертная казнь была отменена, в Аржансе же появился наемный рабочий, который проживал вчетверо больше, чем зарабатывал, и который вполне мог пойти на убийство.
Андре Мэйнотт был мужественным, умным и честным человеком, но его нельзя было назвать образованным. Он присутствовал на судебном процессе по делу супругов Оранж. Слушание произвело на него глубокое впечатление; к тому же он был уверен в невиновности обвиняемых.
Но эти впечатления не могли служить поводом к тому, чтобы бояться. Кто его обвинял? Здесь мы вступаем в сферу необъяснимого. В том и состоит особенность предчувствия, которое никогда не отвечает на все возникающие вопросы.
Андре дрожал, он был очень бледен. Его имя дважды было произнесено там, наверху, у комиссара полиции. Но его разум сопротивлялся, и улыбка появилась на лице, когда он сказал себе: «Это нелепость».
В самом деле: это было просто безумие, ведь нужен по меньшей мере мотив, предлог.
– А я всегда говорила, что следует сторониться таких людей! – вступил в разговор повелительный женский голос.
Это в кабинет ворвалась госпожа Шварц. На сей раз не было названо ни одного имени, и тем не менее Андре Мэйнотт был уверен, совершенно уверен, что говорили о нем. «Таких людей!» Это он и его жена.
Наверху, кажется, попытались выпроводить госпожу Шварц, но она заявила, что имеет право остаться; дело касалось ее лично, потому что с подобными соседями нельзя будет спокойно спать. И если Андре еще полностью не утвердился в своих подозрениях, то основания для них были теперь налицо. Комиссар, судя по наступившей паузе, уступил жене. Между тем незнакомый голос продолжал:
– Тут эта мысль, как молния, пронзила господина Банселля. И когда пришла жена с детьми, он воскликнул: «Я сам все сказал этому человеку! Он знал, что в кассе находятся деньги, равные стоимости всей земли, да еще срочные платежи. Он знает секрет, и рукавица тоже его…»
Андре не понял этой последней фразы, точный смысл которой был бы для него ударом дубинки. Но в этом и не было необходимости. Кровь прилила к его лицу, и крупные капли пота выступили на лбу.
– Их было двое? – спросил комиссар.
– Да, – последовал ответ. – Чтобы взломать кассу, нужно было действовать вдвоем.
– Думаете, двое мужчин?
– Нет… Помочь в таком деле мог бы и ребенок.
– Или женщина… – совсем тихо произнес комиссар.
– Ты ведь мне сказал, – вставила госпожа Шварц, – что видел вчера вечером, как они выходили уже после одиннадцати!
Андре скрестил руки на тяжело вздымавшейся груди. Но сознание собственной невиновности придало ему сил, и постепенно он все же пришел в себя. Он захотел подняться наверх и опровергнуть абсурдное обвинение. Как был, неодетый, Андре сделал шаг, и тут его взгляд упал на прелестное создание, продолжавшее улыбаться во сне. Боль приковала его к месту: ее обвинили тоже!