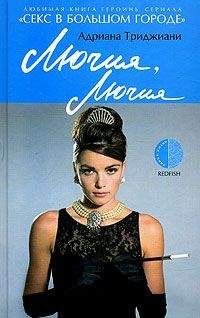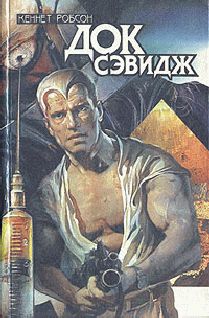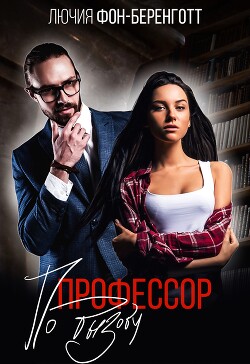Дорога Токайдо - Робсон Сен-Клер Лючия
— Кланяйтесь! Кланяйтесь! — закричали глашатаи впереди носилок. Носильщики замедлили сумасшедший бег, и паланкин стал ритмично трястись с такой силой, что у Кошечки заныли зубы.
Край солнца наконец поднялся над горами, и под его лучами желтая шелковая кисея занавесок приобрела ту бледно-золотистую окраску, какая бывает у слабого ячменного чая в свете огня. Кошечка выглянула в окно и огляделась.
За ночь деревья и скалы припорошил снег. Со всех сторон дороги в небо вонзались белые, как зубы обезьяны, остроконечные вершины горной цепи Касуга. Деревня на границе безопасных для Кошечки владений была бедной. Над крышами шатких хижин, разбросанных по крутому склону горы, поднимались тощие струйки дыма. Казалось, эти лачуги вот-вот соскользнут с крутизны, скатятся по узкой ложбине и свалятся в реку, журчащую далеко внизу. А если они и удержатся на своих местах, снег скоро засыплет их до самых карнизов. Над крышами хижин возвышались покрытые соломой поленницы.
Здесь дорога делала поворот, и Кошечка увидела сложный танцевальный шаг доверенного лица князя — рука выбрасывается вперед, противоположная нога назад, туловище принимает горизонтальное положение, словно человек плывет по разреженному горному воздуху. Толстяк вбежал в глухую деревушку с такой, торжественностью, словно вступал в ворота императорского дворца, распугав при этом кур и заставив опуститься на колени нескольких местных жителей — тех, кто оказался на улице и не успел спрятаться.
Толстяк повернул свой должностной жезл и высоко подбросил его. Когда этот символ власти, крутясь, взмывал в воздух, густая бахрома из конских волос на набалдашнике взвивалась, словно охваченная вихрем. В следующее мгновение слуга князя Хино подхватил свой жезл, бахрома вздыбилась и задрожала. Доверенный слуга князя гордо зашагал дальше — дать распоряжения деревенскому старосте, который простерся перед ним на снегу лицом вниз. Толстяк велел, чтобы знатной путешественнице и ее сопровождающему были наскоро поданы холодная ячменная каша и просяной чай.
Носильщики опустили паланкины в рощице, окружавшей маленький алтарь Инари-сама, божества риса. Мокрые от пота мужчины сели на пятки, дрожа на холодном ветру, и обхватили себя руками, пытаясь хоть немного согреться. Тугие, как канаты, мышцы их икр дрожали, а лица исказились от напряжения: ночной бег дался носильщикам нелегко.
А до городской управы Цутиямы, где их ждут сменщики, целых два ри пути.
— Вы можете выйти, моя госпожа? — с поклоном спросил Хансиро, открывая дверцу паланкина.
— Если бы мои ноги изрезали на палочки для еды, я бы этого не заметила, — ответила Кошечка.
Она прикрыла лицо рукавом и сумела улыбнуться Хансиро, но только глазами. И вовсе не от застенчивости: Кошечка пыталась справиться с приступом тошноты, но уже чувствовала отвратительный вкус рвоты в горле.
Потом княжна Асано обняла Хансиро за шею и на тяжелых и негнущихся, словно поленья, ногах доковыляла с его помощью до кустов. Холодный ветер немного оживил ее, но этого оказалось мало. Пока усталая путница, тужась, извергала из себя едкую слюну и желчь, Хансиро с нежной заботой держал руку у нее на спине. Когда рвота прекратилась, он подал Кошечке свою пачку бумажных платков.
— Ты можешь ехать дальше? — тихо спросил он.
— Да. — Она прислонилась к кедру и жадно, словно воду из горного родника, глотала холодный воздух.
Жена старосты подошла к ним с чашкой просяного чая, которым Кошечка прополоскала себе рот. Потом Хансиро оставил свою спутницу, чтобы она могла заняться теми утренними нуждами, которые не требуют посторонних глаз, и подошел к краю ущелья. Там он ослабил пояс и помочился в пропасть.
Сидя на корточках, Кошечка увидела на земле ледяные пластинки, покрытые сложным, но странно знакомым узором. Наледь облепила листья бамбука белым коконом, на котором отпечатался их рельеф до последней, тонкой, как нить, прожилки. Потом эти оттиски отвалились от своих оригиналов и усыпали землю — идеальные копии листьев, прозрачные и хрупкие. Кошечка заплакала — ей стало жаль этой совершенной и такой непрочной красоты.
ГЛАВА 74
Удар по траве
Правую руку Хансиро держал на рукояти своего меча. Левую он высунул из ворота куртки и поскреб пальцами щетину на подбородке, потом провел ладонью по уродливой корке, покрывшей подживающую рану на щеке. После бессонной ночи его веки покраснели, а глаза налились кровью, так что вид у него был страшен, а взгляд — грозен.
Этим взглядом воин из Тосы пронизывал сидевших перед ним полукругом на пятках новых носильщиков, словно сокол, который следит с высоты за выводком жирных мышей. Над головами носильщиков возвышались, опираясь на жезлы, глашатаи, которые должны были сопровождать паланкины, — один впереди, другой сзади, а за их фигурами виднелась поднимавшаяся к перевалу Судзука дорога Токайдо, заполненная путниками, как всегда рано утром. Весело звенели колокольчики вьючных лошадей.
— Если хоть один из вас сбежит, я сделаю ваших жен вдовами, а детей сиротами, — голос Хансиро был чуть громче шепота, но действовал лучше любого крика.
Воин из Тосы подождал несколько мгновений, давая носильщикам время вдуматься в его слова. Эти люди ожидали паланкины князя Хино во дворе дорожной управы Цутиямы. Человек, которого князь послал вперед, выбрал их из числа местных носильщиков. Они не являлись слугами князя Хино, и новые глашатаи не были переодетыми самураями. Теперь, если придется защищаться, Хансиро и Кошечка могут рассчитывать только на себя.
— Но если в полдень мы попадем в Камэяму, вы получите награду.
Краем глаза Хансиро увидел, что Кошечка вернулась из придорожного отхожего места. Шарф монахини, скрывавший бритую голову, не давал разглядеть ее лицо, когда она садилась в задний паланкин, притулившийся у обочины. Хансиро негромко прикрикнул на носильщиков, те вскочили на ноги, подбежали к носилкам и заняли свои места у опорных шестов.
— Хо-йой-йой! — носильщики палками взвалили шесты на мозолистые плечи. Паланкины, качаясь, двинулись вперед, но один из них остался пустым: Хансиро предпочел бежать за спиной переднего глашатая.
К тому времени, как воин из Тосы преодолел первый из двух ри почти отвесного участка дороги от Цутиямы до Саканосито, сердце бешено колотилось у него в груди, а икры сводила болезненная судорога, но Хансиро не обращал на это внимания — он ужасно устал от тесноты носилок.
Туман, который дотягивался до равнины лишь отдельными завитками, словно нащупывая себе путь, по мере подъема становился гуще. У висячего моста, перекинутого через самое глубокое из ущелий на обходном пути, он превратился в плотную пелену. Путники, ожидавшие очереди, чтобы переправиться на ту сторону, с поклонами расступились перед знатными путешественниками.
Когда Кошечка выглянула из окна паланкина, ей почудилось, что весь мир сжался до этого клочка земли, окруженного туманом, а эти люди рядом — последние, кто уцелел из человеческого рода.
У входа на мост носильщики остановились, и Кошечка смогла выйти. Она отвязала от стенки паланкина широкополую шляпу и надела ее поверх покрывала. Потом молодая женщина сняла с опорного шеста нагинату, отошла назад и встала за спиной заднего глашатая. Хансиро лишь скользнул по ней взглядом, но этого было достаточно. Кошечка поняла: он рассчитывает на ее помощь, когда понадобится удерживать носильщиков от бегства.
Хансиро ступил на длинные, связанные веревками бамбуковые планки — настил моста. Впереди него шли пятеро крестьян, таща на деревянных каркасах тяжелые тюки с рисом и вязанки дров. За крестьянами двигались два носильщика с легким каго, за ними брел их спешившийся седок. Со стороны Саканосито подходила большая группа паломников, среди них несколько женщин. Планки настила все время стучали друг о друга, а плетеные бамбуковые канаты, на которых висел мост, скрипели под тяжестью людей и чуть раскачивались от ветра.