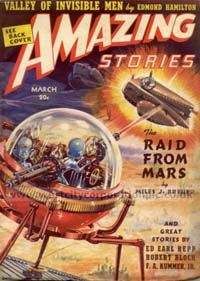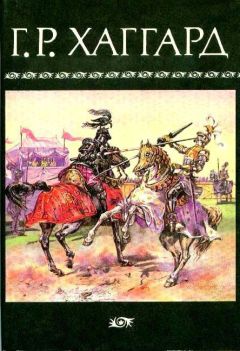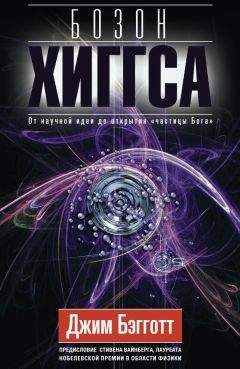Антон Дубинин - Катарское сокровище
Велико было изумление Гальярда, когда он узнал на следующий же день после облачения, что брат Рожер-Поль, несмотря на свой почтенный возраст — всего-навсего монах, не священник, и совсем недавнего призвания: он постучался в двери монастыря в неполных тридцать восемь лет. Маленький, худой и темноглазый, настоящий южанин, он вовсе не стыдился такого, казалось бы, постыдного факта, что его наставник новициата на десять лет моложе самого новиция; ничуть не унывая, напевал под нос псалмы, очищая нужник вместе с приезжим мужиком-уборщиком; а вот улыбался редко. Смеющимся же брат Гальярд его не видел вовсе никогда. Кельи их в монастыре Жакобен по возвращении из изгнания за городские стены располагались рядом, разделенные лишь невысокой деревянной перегородкой, и когда Гальярд слышал из-за стенки сдавленные всхлипы, он порой не сдерживал юношеского любопытства и забирался на стол, чтобы заглянуть к соседу. Тогда-то с великим смущением и наблюдал он пожилого брата, простертого на полу и тихо содрогавшегося от одному ему ведомого горя.
В юности Гальярд отличался здоровым тулузским любопытством. Полный сочувствия к брату по ордену, он неоднократно спрашивал его о причине постоянной печали, но получал в ответ только то, чем мог бы отговориться любой монах на земле: «Молись за меня, я сильно сокрушаюсь о своих грехах». Брат Бернар, лучший Гальярдов друг и неизменный соперник, всегда шедший будто бы на шаг впереди него, тоже не смог рассказать о Рожере ничего вразумительного. Знал только то, что известно было всем — принял Рожера в Орден сам магистр Иордан Саксонский, обратив его своей пламенной проповедью, когда приходилось магистру проезжать через Каркассэ. Ничего удивительного: в каждом городе магистр Иордан собирал обильную жатву послушников, потому что Господь подарил ему необычайный дар красноречия и потрясающую настойчивость, сестру смирения. Так что обращение еще одного ученого человека, лекаря и сына лекаря, пусть даже и хорошо устроенного и в летах, нельзя было назвать чудесным. Но что-то чудесное все-таки мерещилось Гальярду в брате Рожере — и влекло к нему, не отличавшемуся ни красноречием, ни особой яркостью, влекло не менее, чем к блистательному отцу Гильему Арнауту.
Позже Гальярд догадался, что это такое: безрассудная отвага, готовность идти туда, куда никто не пожелает пойти. Например, чистить зловонный нужник. Или в третий раз — не в первый, когда есть надежда на страдание за Христа — но в третий, пятый, восьмой раз — отправляться относить городскому магистрату прошение на возвращение в прежний монастырь, почти наверняка зная ответ наперед: запертая дверь и полное безразличие. «Что? Снова эти монашишки прислали побирушку? Не трогать, нет, себе дороже выйдет; а пускай его сидит хоть до Рождества, небось дырки на ступенях не протрет…» Будто и нет тебя. Будто и нет.
Порой брату Гальярду так и казалось — Рожер хочет, чтобы его будто и не было. Большей частию братья приходили в Орден проповедников, чтобы стать собой — а этот, напротив же, словно стремился перестать быть собою. В конце концов Гальярд так и привык к брату Рожеру, как все привыкли: человек, который никогда не попросит слова на капитуле, кроме как на покаянном… Человек, который никогда не потребует именно его отправить в трудную миссию, к чему в те годы, пожалуй, стремились они все…Человек, который, будучи болен, никогда не скажется больным и ляжет в постель только по приказу приора, уставшего слушать его надрывный кашель… «Брат Рожер — возможно, самый святой из живущих ныне людей, — однажды задумчиво сказал отец Гильем Арнаут. — Кроме разве что Бертрана Гарригского, да, кроме брата Бертрана».
За двадцать лет монашеской жизни изменилось многое. Почти все. Изменилось окружение — не стало ни отца Гильема, ни ближайшего из братьев, Бернара, и старенький Бертран Гарригский вскоре после того разговора ушел на покой в небеса, к своему возлюбленному другу Доминику. Менялось место жительства — после изгнания доминиканцев за город, в Бракивилль, после очередного возвращения в Тулузу, после многих разъездов уже не в качестве перепуганного новиция, а нотария при новом инквизиторе Тулузена — брат Гальярд уже привык, что для проповедника нет ничего вечного. Все, что он строит на земле, стоит на песке в полосе прилива, и море может унести плоды многолетних трудов единым взмахом волны. Менялось положение в Ордене — постепенно из самого младшего Гальярд сделался средним, и сам не заметил, как попал скорее в старшие, из ученика стал учителем, из исполняющего приказы превратился в обремененного правом их отдавать. Менялось и его понимание доминиканской жизни. Мечта поскорее умереть за Господа сменилась взрослением — то есть готовностью долго и трудно для Него жить. А вот брат Рожер не менялся. Разве что седины и морщин у него прибавилось — да и то не сильно: раньше срока достигнув пожилого возраста, теперь он как бы остановился в нем, будто застывший в капле янтаря вечный жучок. Он все так же тихо напевал покаянные псалмы, орудуя метлой или скребком; так же кивал, не поднимая глаз, принимая послушание идти просить подаяние во весьма враждебные кварталы. И так же, без особой радости или страха, Рожер-Поль принял от отца Бернара де Кау первое самостоятельное назначение: их с братом Гальярдом отправляли в печально прославленную деревеньку Кордес, проповедовать там Великим постом 1252 года. А заодно и исполнить вынесенный в отдалении от Кордеса приговор инквизитора Бернара: желтые кресты для шести жителей деревни, объявление о тюремном заключении для одного и сожжение двоих катарских «совершенных» — обоих, кажется, посмертно. Каким именно образом двое монахов безо всякого сопровождения и без поддержки местных могли выполнить всю эту гору поручений — никто не мог сказать и даже предположить.
Страшное было лето Господне 1252. Еще не просиял мученической смертью великий Петр Веронский; уже поуспокоилась всколыхнувшаяся после падения Монсегюра страна, и в горах снова поднимали головы осмелевшие еретики. Проповедники опасались ездить без вооруженной охраны даже до соседней деревни, а никакой охраны еще не полагалось. Папа Иннокентий IV крепко невзлюбил детей святого Доминика за то, что к ним тайно от родственников поступил его юный кузен, надежда всего семейства, которому было готовили роскошную клирическую карьеру. Непорядки в Париже, ссоры с университетским духовенством, происки врага доминиканцев Гильема Сент-Амурского, до самого Рима доехавшего клеветать на братьев — все это «битье в доме любящих» подрывало силы Ордена хуже любой внешней беды. Предполагалось, что инквизиции должны оказывать всякую поддержку местные власти — но отправлявшихся в Кордес братья провожали, как рыцарей на почти безнадежную битву. Кто им там будет помогать? Консулат Кордеса? Кюре, который сам чудом выживает в этом катарском логове? Брат Гальярд, вроде бы всегда желавший мученической кончины, чувствовал себя до крайности неуверенно уже на подходах к Кордесу, когда красные скученные крыши замелькали впереди, по дороге, круто выворачивающей из-за холма. Дул пронизывающий весенний ветер, мокрые обмотки под сандалиями еще больше холодили ноги, ледяные, как камни, и уже почти нечувствительные. Брат Рожер улыбался, как солнышко. Ветер топорщил негустые клочки седины вокруг его тонзуры; шевелились даже тощие кустики волос, торчащих из ушей. Гальярд глазам своим не верил вот уже несколько дней: Рожер радовался!