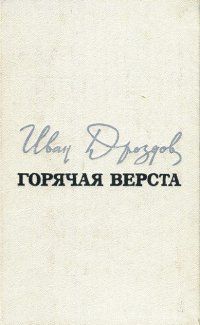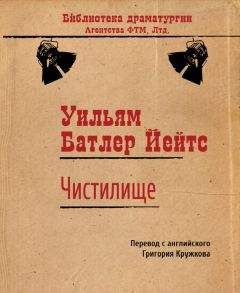Иван Дроздов - Горячая верста
— Павлуша, где твой баян? Я его не слышу совершенно.
За кисейной занавесью раздался смех. И голос:
— Он его и в руки не брал. И чехла не расстегивал.
К дирижерскому пульту вышел Павел Павлович. Растерянно развел руками.
— Михалыч! Какой баян? Да в этом тарараме дюжина контрабасов затеряются.
— Опять за свое! — взмахнул руками Бродов. — Твое дело трель выбивать, трель, говорю, а будет она услышана или затеряется — не твое дело!..
— Трель так трель, — проворчал старый музыкант, не глядя на дирижера и, заметив у окна Егора, поманил к себе взглядом. И когда тот приблизился к сцене, подал ему руку, — Репетировать пришел. Ну–ну, только чур не робеть. Сцена любит смелых.
— Учи парня, учи!.. — укоризненно заговорил Бродов и потянул Егора к себе за руку.
В черном фраке с искристо–черной, светящейся бабочкой у подбородка Михаил Михайлович Бродов казался старым и чем–то напоминал архиепископа, приезжавшего недавно на завод с группой иностранных туристов. Михаил Михайлович положил на плечо Егора руку, повел его в глубь сцены.
Ребята, стоя и сидя возле своих инструментов, встретили Егора дружелюбно: дескать, нашего полку прибыло. А Павел Павлович Хуторков, сидевший возле своего баяна на возвышении, — он, пожалуй, самое видное место занимал, — двигал в сторону барабан, скрипку–контрабас, расчищал для Егора место. Бродов поставил Егора у него за спиной, сказал: — Здесь ты будешь стоять, сюда подведем микрофон. А сейчас под оркестр споешь свою фразу. И потом, стоя за дирижерским пультом и призывая всех к вниманию, крикнул Егору:
— Пока без микрофона. Во всю силу. Слышишь?..
Бродов взмахнул палочкой, и оркестр грянул на все лады. Егор ждал минуты две, а когда наступил его момент, взял широко, сильно:
Ты посто–о–й, посто–о–й, красавица моя-я…
Бродов остановил оркестр. Крикнул из–за пульта:
— Молодец, Егорий. Славно у тебя выходит.
Хорошо. Три–четыре репетиции — и в дело! Ты у нас попробуешь свои силы, а там видно будет: может, певцом станешь, а?.. На сцене, всю жизнь… Хотел бы?
Егор кивал головой: будущее покажет. Он, конечно, не дурак, чтобы отказаться от такой заманчивой перспективы. Одно только смущало: сумеет ли он петь в оркестре.
— Михаил Михайлович! Я нигде не учился.
— А эти… — Бродов обвел рукой оркестрантов. — Они — учились? А?.. Что ты говоришь, Егор! И затем спокойно добавил: — Не беспокойся. Бродов знает, что делает. Зачем тебе шуровать клещами и жариться у стана, ты же талант! Это, конечно, в будущем. А пока — одну фразу. Одну–единственную.
Егор пробовал возражать:
— Кочерга — временно. Отец возьмет обратно на пульт…
Бродов остановился, топнул ногой и дернул Егора за рукав.
— А пульт, что — рай? Ты молодой, тебе яркий вид нужен. Опять же среда, сфера, свет. Да, впрочем, не в этом дело. Оставайся ты на своем стане, никто тебя с ним не разлучает. Говорю тебе — самодеятельность!
— Я согласен, Михаил Михайлович.
— Ну раз согласен, — иди. Когда нужно будет репетировать или выступать — позову. На концерты освобождение дают. Все честь по чести.
Михаил Михайлович фамильярно ударил Егора по плечу; оркестранты, наблюдавшие за ними из глубины сцены, приветствовали вступление Лаптева в их семью: кто поднял над головой скрипку, кто трубу, а кто помахивал рукой. Егор тоже поднял руку, сказал: «До встречи, братцы!» И спрыгнул со сцены, бегом пересек зал. И здесь, в дверях, столкнулся с Феликсом и Настей Фоминой.
— А-а… Железногорский Корузо! — возвестил Феликс и, тронув за руку Настю, сказал: — Подождите меня здесь минутку, я отцу пару слов скажу.
Настя, разглядывая Егора, с лукавой усмешинкой сказала:
— Вы поете? Вот не ожидала. И давно в оркестре?
— Первый день. И не пою, а только пробую.
— Вы, Егор Павлович, оказывается, и с девчатами не церемонитесь, надеюсь, не забыли нашу встречу на трубе?
— Простите, я ведь…
— И прощать нечего! Я сама вас попросила.
Настя смутилась, и Егору это понравилось. Он как бы осмелел, заговорил свободнее:
— В цеху–то я вас раза два видел, а там, на трубе, не признал. К тому же строители вас Аленкой назвали.
— Аленка — подружка моя. В Москве, в школе вместе учились. И Феликс в нашем классе был. Однокашники мы.
— А в канатном седлеце как очутились?
— Пришла к Аленке — её нет; забралась в седлецо, кричу: «Тяните!»
— Понятно. А тут и я подоспел. Простите, Настасья Юрьевна…
— А вот и не прощу! Отцу вашему доложу: хулиган, мол, сын у вас. Ноги мне чуть не оторвал.
Феликс, переговорив с отцом, подбежал к Насте и, удаляясь с ней, сказал Егору:
— Извини, старик! В кино торопимся.
В окно Егор видел, как Настя и Феликс вышли из Дворца культуры и, осторожно ступая по таявшему снегу, направились в сторону кинотеатра «Космос». Настя была в зауженной в талии шубке из черного шелковистого каракуля, Феликс в замшевой куртке с оторочкой из белого меха — оба одеты со вкусом, по последней моде — на манер не здешний.
Егор взял пальто в раздевалке и вышел на улицу. Ему надо было зайти домой, приготовиться к смене, но он машинально, сам не ведая почему, пошел в другую сторону.
Глава вторая
Павел Лаптев сбежал с заснеженного крыльца и по свежему морозцу зашагал к проходным завода.
Миновав ряды голых, но плотно закрывавших панораму завода тополей, он глянул на трубу и все понял: стан стоит давно, с самой ночи. В нагревательных печах едва поддерживалось горение; дым из трубы шел белый, рыхлый и бледным шлейфом тянулся в сторону леса.
В ста метрах от прокатного цеха стояла градирня. Издалека её силуэт напоминал дородную бабушку: бетонный сарафан заужен в талии и книзу расклешен колоколом. Под самыми облаками «бабушка» раздалась в плечах — да так, что головы её ни с какой стороны не увидишь. Горячая вода со стана устремляется по трубам на самый верх — на высоту восьмидесяти метров: там растекается по тысячам малых трубок и дождем проливается на чащобу деревянных реек, из которых и состоит вся внутренность градирни. На самый низ, в бассейн, вода падает охлажденная и вновь течет снимать жар с механизмов стана.
Лаптев, проходя мимо градирни, заглянул через широкие окна–проемы внутрь и по жидкому водяному пару ещё раз определил: стан стоит давно. Когда дела на стане идут хорошо и механизмы его разгорячены от длительной работы, внутри градирни бьется между стенами семицветная радуга. И гудит градирня, пышет жаром, задыхается в горячем ритме — любо тогда на нее смотреть!