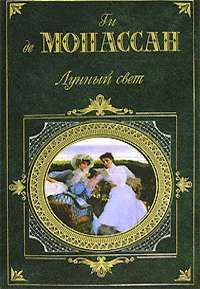Светлана Поли - Ее Звали Карма
— Делай, что велено.
Через некоторое время дверь отворилась, и Евдокия вошла в опочивальню с юношей.
— Теперь же ступай, Евдокия. Позже придешь. Самовар поставь.
Та поклонилась и вышла.
— Не тревожься: мне ужо легче. Отец дознавался у меня о наших встречах. Справлялся, не собирается ли Берджу жениться? Обещался сосватать тебе какую-то сенную девку.
— Зачем ты мне это говоришь? — насторожился юноша.
— Ты не видал батюшку?
— Нет. Никто не знает, что мы были вместе тогда на острове. — поспешил он успокоить княжну.
— А твоя матушка?
— Я ей сказал, что за раками ходил.
— Берджу, бежать надобно.
— Хворая ты еще.
— Не беда. Полегчает, — отмахнулась Катерина.
— Далеко на юге есть море. Вот только карту бы добыть…
— У батюшки бумаг множество, поди и этот документ имеется.
— Я вот об чем тревожусь: далеко мы не скроемся. Хватятся скоро — хуже станет.
— Но и тут житья нам не будет. Разлучат.
— Подготовиться надо, — сказал Берджу. — Путь до моря длинный. Идти будем весну, лето и осень, покуда морозы не затрещат.
— Так ведь на дворе уж лето. А до следующей весны ждать никак нельзя: посватались ко мне. Они-то до весны дожидаться не станут.
За дверью раздались шаги, и, распахнув дверь, в опочивальню вошел Василий. Увидев Берджу, князь переменился в лице.
— Где Евдокия?
— За самоваром пошла, государь, — ответил Берджу и поклонился.
— Ты здесь еще по какой надобности? — грозно спросил князь.
— Евдокия позвала подмогнуть, — не краснея ответил парень.
— Ступай прочь, — холодно произнес Василий. Поклонившись, Берджу вышел.
Князь убрал руки за спину и стал расхаживать по комнате. Подойдя к окну, поглядел в него и развернулся к дочери.
— Почто ослушалась?
— Не разумею, батюшка, — тихо произнесла Катерина, поднимаясь с постели.
— Не велено было с холопом видеться. Почто своевольничаешь?!
— Так что ж мне теперича и вовсе запретно глядеть на простой люд? Может и Евдокию отымите?
— Не ерничай, Катерина…
В опочивальню влетела Евдокия:
— Ой, матушка! Схоронитесь: государь-батюшка вот-вот сюда пожалует… — но увидев Василия, стоявшего у окна, женщина застыла в испуге.
— Пошла прочь! — зарычал князь.
Евдокия поставила самовар и молниеносно исчезла из опочивальни.
— Об чем это она?! А!
— Батюшка, сжальтесь надо мной. В чем вы уличить меня жаждете?
— Ну, гляди, Катерина! Ежели еще раз застану его подле тебя, не жди пощады.
— Почто недоверие такое, батюшка?
— Ложись, не студись. На Яблоневый Спас под венец пойдешь с боярином Андреем. А покуда час твой не пробил, под надзором нашим пребывать станешь. Ложись, я пришлю Евдокию, — сказал отец и вышел из опочивальни.
Катерина забралась под покрывало и, уткнувшись в подушку, разрыдалась.
— Господь милосердный, пощади рабу Твою верную. Почто муки адовы терплю? Почто?! Не разлучай с милым моим, не отымай последнее счастье мое! Ни об чем боле не прошу. Молю только о жалости!
Она плакала от нестерпимой, щемящей боли в груди, от горечи и бессилия, от нежелания покориться злой судьбе, от своей беспомощности; от того, что сейчас лето, а не весна, от того, что она — княжна, а Берджу — крепостной, от того, что некуда ей податься и еще, и еще от чего-то. Наревевшись досыта, бедняжка заснула. И виделось ей во сне: будто стоит она в лодке, и та удаляется от берега все дальше и дальше, а Берджу, стоявший на песке, тает прямо на глазах, словно туман. И вот уж не видно родного берега, только черные волны норовят захлестнуть хрупкую посудину.
4
В трапезной горели свечи. Афоня вынимал из бронзовых треножников огарки, меняя их на новые свечи, и собирал восковые оплывы в берестяной коробок. Было тихо: за длинным сосновым столом ужинали только князь Василий и его дочь, Катерина. Они сидели по разные стороны стола, друг напротив друга; сидели молча, изредка перебрасываясь парой фраз.
— Как здоровье у княжны?
— Хворь отступила, батюшка.
— Добро…Михеич, поди ближе.
— Да, государь, — пожилой слуга склонился перед Василием.
— Ближе, — поманил он его рукой и стал говорить тихо, чтобы было слышно только им двоим. — С сего дня и до той поры, покуда княжна не покинет отчий дом, глядеть станешь за каждым шагом ее.
— Разумею, государь.
— Ежели чего подозрительного углядишь, известишь немедля.
— А на кой предмет должон догляд я весть?
— На предмет певца, Никодима. Гляди, чтоб этого смерда и близко не было подле дочери моей.
— Ага.
— Погодь, не мельтеши. А когда княжна с мужем отбудут, поглядишь денька два-три за этим холопом. Уразумел, чего требуется от тебя?
— Уразумел, батюшка. Чего уж тут мудреного?!
— Ступай. Да гляди у меня!
Михеич низко поклонился и вышел.
Катерина, сидя за другим концом стола, никак не могла разобрать, о чем толковал отец со слугой. Когда тот вышел, она внимательно посмотрела на родителя, пытаясь уловить хоть намек на то, о чем он думает, но князь был непроницаем. Остаток ужина они просидели молча…
* * *Небо становилось малиновым. Солнце клонилось к закату. В церкви зазвонили колокола, и народ заторопился на вечернюю молитву. Катерина стала входить в церковь следом за отцом, перед которым все расступались и низко кланялись, и тут увидела у ворот помощника государева конюха, одиннадцатилетнего Тимошку. Зацепив его за рукав, она отвела того в сторону.
— Тимош, из церквы идти будешь, заглянь в горницу к Берджу, отдай ему это, — она быстро сунула подростку в руки плотно свернутый небольшой легкий платок. — Только гляди, чтоб тебя там никто не увидал. А может встретишь его где по дороге, так еще и лучше. Ясно?
— Ясно, княжна, — обрадовался заданию парнишка.
— Схорони платок за пазухой — то, а то не ровен час углядит невесть кто. Вот так. А теперь ступай с Богом.
Тимофей поклонился и, придерживая рукой спрятанный под рубахой платок, стал протискиваться через толпу ближе к алтарю. Священник окуривал алтарь фимиамом, раскачивая кадило. Катерина зажгла свою свечу и приблизилась к отцу.
— Восстаните! Господи, благослови, — возгласил диакон. И весь народ стал на колени, держа перед собой свечи.
— Слава святей, и Единосущней и Животоворящей, и Нераздельней Троице внегда, ныне и присно и во веки веков, — подтянул иерей.
— Аминь, — пропел хор.
Берджу тихонько вошел в церковь и устроился неподалеку от выхода. Внутри царил полумрак. Свет от пламени свечей отражался бликами на иконах, и те словно оживали. Стоял густой запах ладана: священник окуривал прихожан фимиамом.