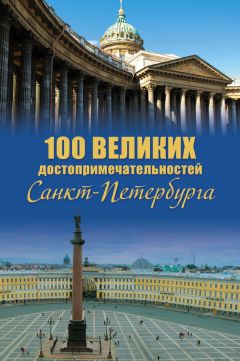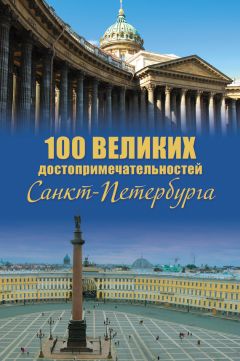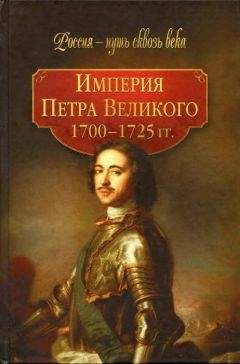Багдан Сушинский - Путь воина
— Это уже не размышления, виконт, а величественный бред, вопли отчаяния и покаяния.
— Для этого города, ваше высокопреосвященство, вы сделали столько, что всякий раз, когда вы поднимаетесь на Монмартр, он должен застывать с чувством благодарности и раскаяния за то, что не сумел вовремя распознать и признать вас.
— Требовать чего-либо, в том числе и признания, от Парижа, — мрачно изрек Мазарини, все еще всматриваясь в подернутые дымкой, бивуачно разбитые у подножия холма кварталы города, — все равно, что требовать исповеди от Девы Марии. Что бы она ни изрекала при этом, все будет святой, истинной правдой, которая, однако, ни на дуновение ветерка не приблизит вас ни к истинности ее святости, ни к святости ее истинности.
— Но ведь всем известно, ваше высокопреосвященство…
— Неужели существует что-либо такое, что было бы известно всем? — поспешно переспросил кардинал, не позволяя секретарю завершить свою мысль.
— … Что, еще не взойдя на престол, вы давно покорили не только Париж, но и всю Францию. Об этом говорят не только в Париже, но и в Риме, в Дрездене, во всех городах Священной Римской империи.
Мазарини иронично ухмыльнулся. Он прекрасно знал, что на самом деле думают и говорят о «бешеном сицилийце», «любовнике Анны Австрийской», «безбожном кардинале», «хитром и коварном римлянине» не только в столицах враждебных ему государств, но и в самом Париже. А еще — в Версале, Руане, Марселе, Орлеане, словом, везде, где оплакивают погибших в этой, столь же бессмысленной, как и бесконечной войне, и где облачают в тоги святых и спасителей отечества своих, доморощенных кандидатов на французский трон. Просто там все еще не понимают, что всякий, кто вознамерится покорить Париж, немедленно становится его убийственно бесправным рабом. И что править Францией еще не значит править Парижем, а править Парижем еще не значит покорить его. Точно так же, как из того, что вы — силой ли, хитростью или коварством — покорили Париж, еще не следует, что Париж покорился вам. Правители, умудрявшиеся овладеть Парижем, на холм этот уже, судя по всему, поднимались. Единственный, кто еще не венчал собой этот Холм Мучеников, так это правитель, которому бы Париж и в самом деле покорился.
Взглянув на могущественного кардинала, а затем — на не менее могущественный Париж, виконт де Жермен мечтательно опустил занавес ресниц. Нет, он решительно не понимал Джулио Мазарини. Оказавшись на его месте, он, виконт де Жермен, наверное, сошел бы с ума от ощущения успеха и власти. Все дело в том, что такие правители, такие некоронованные короли, как кардинал Мазарини, слишком много философствуют по поводу власти и своего могущества, вместо того, чтобы, сотворив то и другое, до конца дней своих проникаться величием сотворенного. Ибо, если уж всемогущественный кардинал Мазарини чувствует себя рабом Парижа, то кто же тогда чувствует себя его повелителем? Кто, черт возьми?! Не Анна же Австрийская, которую власть, данная ей как королеве-матери, регентше при младовозрастном Людовике XIV, не столько вдохновляет, сколько вводит в смятение. И не будь рядом ее первого министра и фаворита Мазарини… Да еще молодого принца Людовика де Конде…
— Что именно время от времени приводит на Монмартр кардинала Мазарини — действительно известно всему Парижу, всей Франции, вообще всем кроме разве что самого Мазарини да Господа Бога. А вот что привело сюда нынче вас, господин секретарь первого министра?
Де Жермен уже привык к тому, что его сугубо служебные диалоги с кардиналом очень часто превращались в своеобразные философские турниры, во время которых виконт не смел, а кардинал великодушно не стремился выходить победителем. Зато отшлифованная в них иносказательность нередко позволяла им и при свидетелях объясняться так, чтобы свидетелей их объяснений, по существу, не оставалось.
— Вчера вечером я не смел потревожить вас…
— Оказывается, и вы тоже иногда являете миру проблески благоразумия, — проворчал кардинал, как всегда, воспользовавшись медлительностью речи своего секретаря-виконта. В общем-то, он никогда не был в восторге от неспешности, а порой и явной нерасторопности де Жермена. Однако нет-нет да и проявлялось в его делах и помыслах нечто такое, что позволяло кардиналу не слишком торопиться с заменой своего секретаря.
— Как раз вчера, в ваше отсутствие… — виконт мог бы и не выдерживать этой, слишком уж красноречивой паузы, давая понять, что он знает, что именно скрывается за этим «в ваше отсутствие…». Как прекрасно знает об этом и Анна Австрийская, в будуаре которой кардинал провел все свое «отсутствие», — появился посыльный от папского нунция монсеньора Барберини.
— И чего же добивается этот ваш нунций на сей раз? — саркастически осклабился Мазарини.
Обладая саном кардинала и прекрасно зная всю подноготную дипломатии «святейшего престола», он обычно ни к одному послу, ни к одному советнику посла не относился со столь неприкрытой великосветской иронией, как к нунцию папы римского. Тем более что этому способствовала и сама личность «нунция» — словцо это в устах кардинала всякий раз приобретало какой-то особый кулуарный привкус.
— Как всегда, он жаждет аудиенции.
— Не поражайте меня изысканностью своего доклада, — почти побагровел Мазарини, только теперь, собственно, переводя взгляд на виконта де Жермена. До сих пор он предпочитал наслаждаться видами того, что представало перед ним на пространстве между Монмартром, Сеной и Нотр-Дам де Пари.
— Насколько я понял, нунций решил вручить вам послание папы, которого мы так добивались. С требованием, с настоятельной рекомендацией, — тотчас же исправил свою оплошность, уже вторую за время доклада, де Жермен, — прекратить эту, уже тридцать лет длящуюся, войну.
— Прекратить войну, длящуюся тридцать лет! — буднично как-то покачал головой Мазарини. — Неужели найдется человек, который бы однажды решился на это?
Услышав его слова, виконт внутренне вздрогнул. Он был поражен. Еще два месяца назад Мазарини сам усиленно намекал Ватикану на то, что ему давно пора бы обратиться к Франции с настоятельной просьбой прекратить эту бесконечную войну. Ведь только обращение папы позволило бы первому министру правительства выйти из этой, не им затеянной, войны, сохранив при этом, если уж не позу победителя, то хотя бы по крайней мере благочестивое выражение лица: как-никак он спасает Европу от чудовищного кровопролития, которое не он затеял, но из-за которого сотни раз народом был проклят.
Мало того, у нунция уже даже существовал текст послания, которое он так и не вручил Мазарини. Узнав о тоне послания, первый министр решил, что оно слишком мягкое и ни к чему не обязывающее. А он хотел преподнести буллу папы своему генералитету, аристократии, торговцам и всем прочим, кто был крайне заинтересован в продолжении войны, как документ, принуждающий его подчиниться воле святейшего престола.