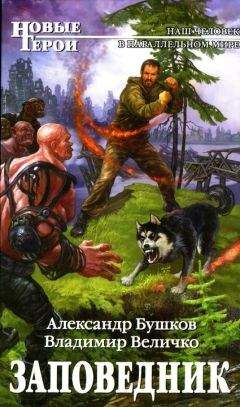Василий Тишков - Последний остров
Еще по пути из госпиталя Иван молил сердце в тревожной надежде, чтобы додюжило оно до встречи: хоть денек, час, минуту хотелось побыть дома. Это желание возникло сразу, как только Иван понял, что больше не жилец. Тогда ведь проснулась только его душа, подлечили врачи ее, потушив безумие. Но тело умирало. Надорвалось оно за четыре года войны, издержалось в борьбе с тяжелыми ранами. Он понимал, что принесет родным еще большее горе, может быть, они уже свыклись с мыслью, что нет его давно. Но и просто так умереть на чужбине, сдаться без боя он не мог. И уж если пробил его час, то надо дотянуть до дома и уснуть навсегда в своей, родимой земле.
И додюжило сердце, справилось с собой и со всеми другими болями.
Увидел Иван красивую, нарядную, как до войны, Катерину, увидел взрослого сына. И спасибо всему святому, что довело его к дому и подарило эти счастливые мгновения.
Он аккуратно притушил цигарку. Достал из чемодана подарки: сыну — командирские часы со светящимся циферблатом; Аленке — замшевую, расшитую бисером безрукавку; жене — отрез тонкого диагоналя, пусть костюм сошьет себе или платье. Все это разложил на столе, а сам надел парадный китель с дюжиной орденов да медалей. Уж выходить на последний свой парад, так выходить по всей форме и при наградах, которые даром не дают солдату.
И солдат этот был сейчас по-настоящему счастлив, сбылась его последняя мечта. Войну он с честью прошел от самого ее начала и до последних дней. Вернулся на родину. Обнял жену и сына. А умрет, так умрет на своей земле, на земле отца и деда, на земле, которая вскормила его.
А сердце отбивало последние удары, оно сделало все возможное и даже невозможное, это простое человеческое сердце…
А улица плакала.
Татьяна сразу увидела многих своих односельчан, и по их глазам, по их лицам поняла, что случилось непоправимое именно с Иваном Степановичем Разгоновым, потому что и утром весть о приезде его так же всколыхнула Нечаевку, не каждого в отдельности, а всех как одного нечаевцев. То был общий горестно-радостный вздох облегчения, а теперь же — одна на всех беда горючая.
Пока Татьяна и Жултай шли ко двору Разгоновых, перед ними, как в розовом бреду, проплыли знакомые лица.
У дома Сыромятиных прижались к бабке, которая причитала и крестилась, Юлька с Аленкой.
Среди дороги стоял высокий и широкоплечий старшина-танкист с медалями на выгоревшей гимнастерке. Одной рукой он обнимал припавшего к его груди Егора, а другой то поправлял сползающий с плеча рюкзак, то смахивал слезу.
Проскакал куда-то на лошади лесника Федор Ермаков. Лицо его было черным от горя.
Со двора Разгоновых, пошатываясь, вышел постаревший вдруг Парфен Тунгусов. Он беззвучно ругался, и левая щека его, пропаханная бело-розовым шрамом, дергалась, искажая лицо до нечеловеческой страшной улыбки.
От базара центром улицы шла, отрешенная от всего и вместе с тем ничего не понимающая в этом мире, красивая в праздничном наряде и в горе своем Катерина Разгонова.
Сберег Яков Макарович Сыромятин тот красный гарус, которым был накрыт стол на митинге в сорок первом году, когда уходили добровольцами на войну все нечаевские мужики. Теперь этим гарусом обили гроб Ивана Степановича Разгонова.
По завещанию самого Ивана, хоронили его на взгорье Лосиного острова у берега озера Лебяжьего. Хоронили на третий день. А перед этим две ночи, как настояла бабка Сыромятиха, по Герою устроили плач.
Плакальщицы, Секлетинья и Пестимея, две ночи не отходили от гроба покойного. В причитаниях своих они не только оплакивали Ивана, а поминали и всех дружков его боевых, что сложили головы на поле брани. Рассказали плакальщицы о храбрости солдат, об их добром сердце. Поведали в причитаниях, как не жалели солдаты живота своего ради земли русской, защитили вдов и сирот горемычных, и будет им за это вечная слава и память народная.
К Лебяжьему шли все от мала до велика. Траурное шествие с крышкой гроба начали братья Овчинниковы, Сережка с Алешкой. А замыкали растянувшуюся на версту похоронную процессию Кузя Бакин с Тимоней. Они еще вчера сделали из сухого теса пирамиду и сегодня никому не доверили, сами везли ее на ручной тележке.
Гроб несли на плечах мужчины. А их не так уж и много осталось в Нечаевке.
Не сговариваясь, фронтовики собрались при боевых наградах и в форме, в которой вернулись с войны. Даже Яков Макарович Сыромятин облачился в старую матросскую форменку с тремя Георгиевскими крестами времен Первой империалистической войны. Сегодня и он был старым солдатом среди молодых фронтовиков: снайпера Парфена Тунгусова, разведчика Федора Ермакова, десантника Жултая Хваткова, танкиста Константина Анисимова.
Шестым, по общему согласию и решению фронтовиков, гроб с телом Героя нес молодой нечаевский коммунист, хоть и в тылу, но за народное добро выигравший не одну схватку и дважды раненный Михаил Иванович Разгонов.
Много дорог за четыре года прошли фронтовики, они устали от войны и разлуки, потому шли сегодня в строгом молчании, в привычной усталости. Но всю дорогу до Лосиного острова не дали сменить себя у гроба ни женщинам, ни подросткам.
Было что-то необъяснимо-торжественное в таинстве молчаливого шествия по дороге среди пашен и лесов. И хотя не стояли любопытно глазеющие, не гремела в печали медь духовых оркестров, не пестрели нарядные трауром сухие венки, провожающим солдата в последний путь казалось, что сейчас смотрят на них вставшие в памяти нечаевские коммунары, что склонились в скорбном молчании белые березы, что поют прощальные песни лесные птицы, что жалеет солдата и скорбит о нем сама земля. А еще провожающие душою и сердцем понимали, что сегодня они провожают в последний путь не просто искалеченного войной человека — они хоронят вместе с Иваном Разгоновым и тех солдат-земляков, чьи сердца остановились на разных дорогах в дальних землях и странах. Имена их сейчас повторялись с любовью и тоской женами, матерями, сиротами. Поселяне озерного края свято верили, что войны такой уж не будет отныне и во веки веков.
На чистом зеленом взгорье у двух берез фронтовики остановились, осторожно спустили с плеч скорбную ношу.
Вздохнул уставший больше других дед Яков, расправил грудь, пригладил белую бороду, строго оглядел сызмальства знакомые угодья. И с понятием одобрил завещание соседа, почему именно здесь облюбовал Иван Степанович для себя последний приют. Отсюда в миражной сини просматривались дальние дали с озерами, лесами, пашнями, проселками в луговинах, большими и маленькими деревеньками. И было ощущение застывшего в бесконечности мгновения полета над всей этой родимой землей.