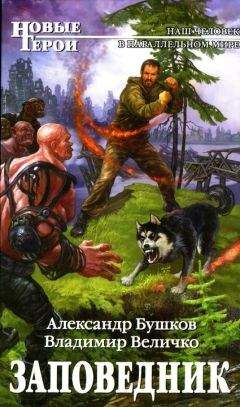Василий Тишков - Последний остров
— Так ведь и сейчас робить надо. Сегодня и завтра… А с кем? — не сдавался Тунгусов.
— Робить надо. Токо ты, Парфенушка, вперед греби по курсу. Греби, покуда сила в тебе есть для общей пользы. Вот покуда понятие в тебе это будет, до того ты и человек. Не в похвальбу будет сказано, но к слову: Ивану Степановичу низкий поклон за сына, за Михаила Ивановича, значит. Мы тут с ним тоже не лыко драли, а робили — сперва я зачинал, потом он продолжил и по сей день вахту несет. Долгие эти годочки-то, сосед, оказалися. Да… Хотели вы к уборочной вернуться в сорок первом, а оно ишь как вышло. Я все позиции успел посдавать, а сынок твой, стало быть, вторым эшелоном, как вы под Москвой стали. Вы там, а мы здесь. Все по-людски, как и положено у нас исстари.
— Яков Макарович, да будет тебе, — Федор Ермаков остановил деда. — Какая тут у нас работа по сравнению с военной. Только бы понятие да совесть имелись в наличии, вот и вся недолга. А там… все по полной мере. Скажи, Иван Степанович, как сам-то думаешь?
— А чего говорить, мужики? Не хуже моего знаете, как под Москвой стояли… Под Сталинградом… Под Курском я уже батареей командовал. Мои сорокапятки на прямую наводку. Против… Там, на картах фронта что-то выравнивалось, где-то мощные удары намечались, а мои ребятки стояли. Как было приказано, сдерживали танки. И все полегли. Остался я да санинструктор, девчушка совсем. Она меня и вытащила из пекла. Но танки не прошли. Ни один не прошел…
— Господи, страсти-то какие, — перекрестилась Сыромятиха. — Да как же человеку в этакой геене огненной устоять?
— Устояли, соседка. Иначе нельзя.
Подошла Катерина, с забытой ласковостью притулилась к спине мужа, пригладила его серебристо-белые волосы, осторожно спросила:
— Может, ты устал, Иван Степанович? Может, хочешь маленько отдохнуть с дороги-то?
— И то дело, — одобрительно загудел дед Сыромятин. — Разговоры разговаривать еще успеем. Пошли, старуха, к себе. Спасибо, Михаил Иванович, за угощение. А вечерком милости прошу к нам. Попотчуем и мы, чем богаты. И о нашем житье-бытье посудачим, Иван Степанович.
Гости поднялись из-за стола.
— Зря вы, мужики, заторопились, — как-то грустно откликнулся Иван. — Посидели бы еще…
— Отдыхай, Степаныч, — попрощался и Парфен Тунгусов. — Делов у меня, сам понимаешь, полон короб: сенокос на неделе зачинаем. Вот где цигарки не в ходу. Одним настоем трав пьян день-деньской. Ну, бывай.
Когда уходили, Федор Ермаков шепнул Михаилу:
— Видал, чо с отцом-то?
— Не слепой, поди…
— Ежели еще раз найдет на него, не пужайся. Я до вечера тут буду рядом, у деда Якова. Позовешь.
— Ладно.
Михаил вернулся к столу.
— Мамань, давай-ка стол отнесем в сенки, — вдвоем они отнесли стол вместе с закусками в прохладные сени. — Ты постели отцу на сеновале, пусть вспомнит, как травы лесные пахнут. Ему отвлечься надо.
— Сделаю, сынок, как велишь, — она прислонилась спиной к дверному косяку, закрыла глаза. — Ох, горюшко-то какое… Чего это с отцом нашим сталося? Таким соколом на войну уходил…
— Война-то не мать родна. Кого хошь укатает. Спасибо, что жив вернулся. А раны залечим. Главное, устал батя от военной работы. И раненый весь. Беседу ведет и то вполголоса. Ему теперь отдых требуется… — говорил Михаил тяжело, с расстановками, словно перекатывая свинцовые гири, боясь неосторожным словом еще больше напугать Катерину.
Напуская на себя серьезность и рассудительность, Михаил сам был на грани отчаяния. Но кому-то ведь надо оставаться опорой, и никому не объяснишь, что сил для этого мало, подступал в горле першащий комок, и хотелось, чтобы тебя пожалели.
Он вышел в слепящую зелень солнечного двора и увидел отца, сидящего на штабеле белых бревен, которые они заготовили четыре года назад для нового дома. Тогда эти бревна не успели стать домом вместо глинобитной избушки. За годы войны бревна высохли до светлого звона, и теперь из них не то что дом, песню звонкую можно сработать.
— Я велел матери, чтоб постелила тебе на сеновале, — сказал Михаил, присаживаясь рядом с отцом. — На лесных луговинах сено-то кошено.
— Что это у тебя за форма, сынок?
— Лесничего. Макарыч ведь говорил в застолье. Два года уже работаю. А этой зимой еще на курсах учился. Экзамены сдавал. Все ладом: деньги, паек, форма одежды. И лошадь при мне. Кордон лесничества на Лебяжьем.
— На Лебяжьем, говоришь?
— Ну. Обжили мы его как следует. Почище любого курорта у нас на Лебяжьем. Отдохнешь маленько, повезем тебя с Аленкой туда. За одно лето все болезни свои забудешь.
— Если б только болезни… Не знаю, как и дотянул до дому. Да и не мог не дотянуть. Я должен был вас увидеть.
— К дому все дороги короче.
Иван вдруг побледнел в лице, оперся на плечо сына и твердо, чуть с хрипотцой заговорил:
— Вот что, Михаил Иванович. Ежели что случится, а это может произойти в любую минуту, то исполни последнюю отцовскую волю: похоронишь меня у Лебяжьего на взгорье подле двух берез. Стоят еще те березы?
— С-стоят… — содрогнулся Михаил от изменившегося до жесткого приказа голоса отца и от того, что он сказал. — Зря ты, отец, такие разговоры начинаешь.
— Мне лучше знать. Я ведь всех обманул — и врачей, и саму смерть. Отсрочку себе выкроил. Приехал умирать на свою землю. Это кое-что да значит, — все так же круто наказывал отец. — А похоронишь меня обязательно на Лосином острове. Истомилась душа в обнимку с безглазой. Не хочу и после настоящей смерти на кладбище лежать. Живым среди мертвых належался.
— Но разве так бывает, отец? — пересохшими сразу губами прошептал Михаил. — Я ничего не понимаю… Мы ждали тебя каждый день. Каждую минутку только и думали… А ты… И мать, так ту сразу же убьют этакие слова твои…
Иван повернулся лицом к сыну, жестом и взглядом заставил его замолчать. Потом снова глянул куда-то поверх Михаила затуманенными глазами, сказал тише и уже более мягко:
— Ты еще молод, сынок. Тебе трудно вот так сразу понять всю мою боль и тоску. Потому не осуждай сейчас решение солдата, дважды или трижды воскресшего, но в самый последний свой час пожелавшего умереть на родной земле. Каждый человек, сынок, имеет на это право. А ты закали сначала сердце и ум, тогда все и рассудишь. А теперь показывай свои лесные травы и оставь меня одного. У тебя тоже, наверное, как и у Парфена Тунгусова, делов целый короб?
— Дела всегда есть в хозяйстве. Без дела человек не живет, а зазря небо коптит…
Михаил осекся на последнем слове, удивленно посмотрел на Катерину, которая вышла из сенок с узелком в руках.
— Мамань, ты куда это навострилась? — он поднялся навстречу матери.