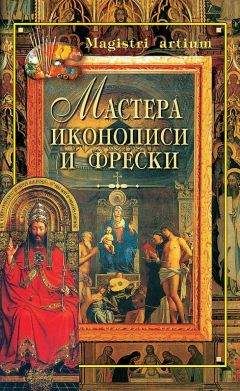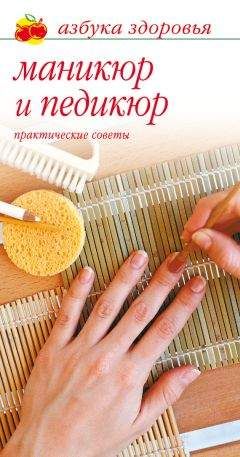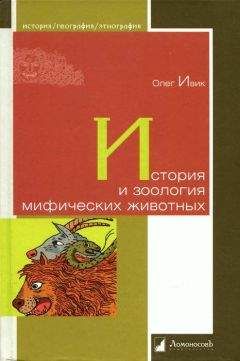Майя Туровская - Бабанова. Легенда и биография
{274} Глава VII
У Охлопкова
Театр имени Маяковского
Все кончилось так скоро, что не успело и начаться.
Четырнадцатого октября собрались под родной крышей, починенной после бомбежек. Пятнадцатого старый знакомый Николай Федорович Погодин прочитал в театре свою пьесу «Лодочница». Увы, Сталинградская битва — еще недавняя, кровоточащая и уже легендарная — выглядела в пьесе как-то бумажно-бутафорски.
Для Охлопкова кроме естественного интереса к теме был тут свой особый режиссерский резон: действие происходило на водной переправе, и он уже видел, как героиня пьесы на своей лодочке скользит туда и сюда вдоль рампы по настоящей, живой, играющей бликами света, воде. Прием, некогда без особого проку использованный в постановке «Рычи, Китай!», опять казался смело и празднично театральным в эту пору повсеместных павильонов на сцене.
Для Марии Ивановны, игравшей Погодина в лучшие его времена, никаких соблазнов в пьесе не было. Она с содроганием услышала, что роль «лодочницы» прочат ей, и отказалась.
Охлопков обиделся. Он сделал щедрый жест, предложив Бабановой занять в его будущем монументальном театре подобающее место. Она осталась глуха к его щедрости.
Смысл этого вроде бы пустячного инцидента оказался со временем куда существеннее простого столкновения характеров, успевших сформироваться и отвердеть с мейерхольдовских времен. Из школы Мастера они вынесли разные уроки.
Но размолвка не мнилась пока слишком серьезной ни актрисе, ни режиссеру. Была Москва, был свой, привычный театр, была пьеса и новая роль, несмотря на отказ от «Лодочницы». Труппа, правда, была непривычно многолюдная после слияния двух театров, да и называться театр стал по-другому.
Из записной книжки Д. Н. Орлова
«Сегодня, 23 ноября, стало известно, что приказом ВКИ объединенному Театру Революции и Театру драмы под флагом Театра Революции с сегодняшнего дня присвоено название Московский театр драмы. Театр Революции утратил свое имя после 21 года с лишним…»[238].
По правде говоря, театр давно уже не соответствовал прежнему названию Новое никому ничего не говорило: имени предстояло обрести вкус, звук, цвет.
{276} Роль же, которую получила Мария Ивановна и которой ей предстояло дебютировать под новой вывеской Театра драмы, была хорошая, хотя о пьесе, пожалуй, этого не скажешь. Пьеса называлась «Сыновья трех рек» и принадлежала перу покойного уже к тому времени Виктора Гусева. Местом действия была вся Европа; среди действующих лиц — Волга, Сена, Эльба. Война, еще далекая от конца, но с ускорением катившаяся на Запад, должна была предстать как обобщенное символизированное действо в стихах. И так как новое почти всегда есть хорошо забытое старое, то земное полушарие, водруженное Охлопковым на тесной сцене, разве что специалистам могло напомнить о «Мистерии-буфф» Мейерхольда или о «сегментно-глобусной сцене» другого великого экспериментатора двадцатых годов — немца Эрвина Пискатора. Для новых поколений зрителей, просто и без усилия совмещавших в своей повседневности дневные заботы о хлебе насущном (не в переносном, а в буквальном смысле) и столь легко утрачиваемое в мирные времена чувство присутствия исторического целого, сознательное возвращение Охлопкова к некоторым приемам двадцатых казалось ошеломительно новым. Даже грубая бутафория не оскорбляла, а, скорее, радовала глаз какой-то веселой наглядностью своей театральности. Точно так же, как истинно театральна была выспренная словесность Гусева.
Среди громоздкой бутафории, пиротехники, толчеи аллегорических и житейских фигур, громкой музыки и патетических стихов Мария Ивановна репетировала небольшую, но изящную роль французской девушки Мари, состоящую из трех маленьких остросюжетных сцен: своего рода лирико-трагедийный скетч внутри спектакля.
Роль давалась до смешного легко. Мария Ивановна вложила в Мари изощренный опыт мейерхольдовских миниатюр и горький опыт жизни. Сквозь изящные штрихи сценического рисунка проступала грубая материя истории.
Неведомо почему, замоскворецкая родом Муся Бабанова легко схватывала национальную мелодию всякой роли и легко могла бы стать «звездой» «национальных» жанров — толика эстрадного заострения была свойством ее миниатюрной техники. Не повидав заграницы, она научилась ловить разноголосицу мира на серо-белом экране кинематографа, по радио, на {277} граммофонных пластинках. Она от природы была наделена особой музыкальностью всего существа — не только слуха или голоса, но музыкальностью тела и души.
«Был большой период в нашей жизни с Марией Ивановной, — вспоминает Ф. Ф. Кнорре, — когда мы увлекались пластинками. Помню, в комиссионном магазине я купил граммофон и туда же заходил часто выбирать пластинки — они лежали пачками. Долго мы жили на даче под этот граммофон — любили слушать Мориса Шевалье, оркестр Гудмана, Армстронга…».
Не только ее трагический китайчонок-бой или русский парижанин Гога, но и апашки, девицы берлинских кабаре или «звезды» американского джаз-банда удивляли отчетливой точностью национального акцента.
И эту актрису называли русской Джульеттой — Марией Ивановной Капулетт, французской Ларисой с портрета Ренуара и даже высказывали предположение, что она и вообще по своей «иностранности» Островского играть не может! Это она-то, лучшая Полинька русской сцены, замеченная самой Лешковской!
Странному этому противоречию объяснение, всего вернее, надо искать в той упорной неприязни, которую Мария Ивановна испытывала к открыто лирическим ролям.
Лишь спрятавшись за характерностью, как графиня Диана за пышным веером, она могла быть нежна, шаловлива, бешена, практична, лирична Национальная мелодия роли и была для нее самой желанной характерностью — будь то странно-высокий монотонный звук китайской песенки иль простоватый акающий говорок мещаночки Полиньки. «Иностранная» Бабанова была настоящей мастерицей русской речи — никто никогда не упрекнул фабричную девчонку Анку и колхозницу Машу в чем-нибудь национально или классово чуждом. Но предоставленная стихии чистого лиризма — в Джульетте, в Ларисе ли, — она перекладывала их на собственные, ни на кого не похожие ноты и сразу становилась иной и странной — «иностранной» по отношению к любой роли, чем проще всего и было ее укорить.
Из всех иностранных мелодий легче всего давалась ей французская. Слово «парижский» всегда имело для русского уха неизъяснимый шик, скрывало какую-то тайну — изящную и вместе чуть-чуть циничную. К будничному, повседневному Парижу военных лет это, быть может, имело не много отношения — да и кто же тогда мог представить его себе в Москве. Но был парижский стиль, почерпнутый из уроков великой французской литературы, звучания языка, из песенок Мориса Шевалье и Эдит Пиаф, из старой ленты «Под крыша ми Парижа», которая когда-то шла в маленьких кинотеатрах, из Эренбурга, из модных журналов, а паче всего из артистической интуиции. Бабанова воплотила этот стиль в совершенстве.
Ее Мари несла в себе наследие насмешливого мопассановского цинизма и каприза ростановской Роксаны, остроту линии Тулуз-Лотрека и очарование банальности уличной песенки. Пока еще беспечная, она играла в вечную любовную игру со своим скучноватым Анд ре (все тот же Лукьянов), побуждая его стать остроумным и страстным, нежным и красноречивым любовником и, увы, сохраняя превосходство ума, опыта жизни и просто личности. Мария Ивановна не столько играла текст Гусева, сколько играла с текстом — наивным, иногда даже глуповатым, — отдаляя его от себя на дистанцию усмешки, делая из него ловушки для Андре или приближая к груди и отогревая его голосом. Не лишил {279} ее автор и песенки, этого всегдашнего бабановского оружия, — и портрет парижской неидиллической идиллии был дорисован до конца. А потом на это слишком человеческое обрушивался грохот войны…
Однажды — уже перед премьерой — в театр зашел писатель Лев Кассиль и был так потрясен, что тут же, на репетиции, опустился перед Марией Ивановной на колени. Артистическое чудо, да еще застигнутое нечаянно, врасплох, всегда поражает воображение больше всего остального: его рукотворность наглядна и непостижима.
В сцене встречи Мари с солидным немецким дельцом Баумволем Бабанова удивительно передавала борьбу духа и тела, голода и гордости маленькой парижанки, которую соблазняют покровительством и бутербродом. Она была деликатно, стыдливо и гордо голодна: не набрасывалась, а прикусывала пышный, неправдоподобно белый бутерброд, протянутый ей Максимом Штраухом, который играл Баумволя. Что говорить, зрелище этого наглого, завернутого в блестящий целлофан бутерброда было не только для Мари, но и для самой Марии Ивановны диковинкой. Не говоря уж о зрителях, которые, сидя в темном зале, вместе с нею глотали слезы и слюнки. Еще не открылись коммерческие магазины; еще были продовольственные карточки, и хлеб составлял главную еду, которой всегда не хватало. Еще белый, пшеничный хлеб казался раритетом — вроде извозчиков, а за черным (400 граммов — иждивенческая карточка, 500 — служащая и студенческая, 800 — рабочая и «литерная») стояли очереди.