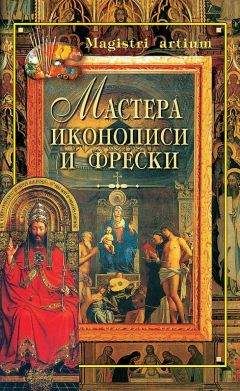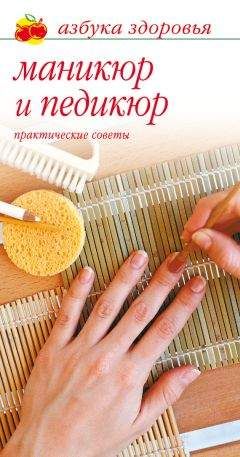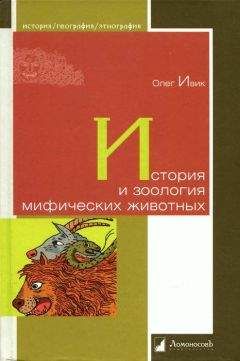Майя Туровская - Бабанова. Легенда и биография
А как легко становилось мнимому Азарову, когда приходилось отвечать на прямой вопрос Кутузова, не женщина ли корнет, — бабановская правдивость рвалась ему навстречу. В ситуации комической и плачевной актриса не боялась звенящей ноты в голосе, когда ее Шура отстаивала свое право защищать родину наравне с мужчинами, — это была частичка бабановской темы и частичка темы военной.
Изящный спектакль театр привезет из эвакуации, «Питомцы славы» будут идти на неудобной старой сцене на углу Собиновского переулка, пленяя голодную военную Москву так же, как прежде Ташкент.
И все-таки в этой очередной удаче «театра Бабановой» станет очевидна одна его закономерность: театр актрисы, выросшей под властной рукой Мейерхольда, требовал сильного режиссера. Нужды нет, совпадал ли ее личный актерский замысел с его, режиссерским, до конца. Бывало так, что роль складывалась в обоюдном споре. Но сам уровень спора определял масштаб характера — так было и в «Тане» и в «Бесприданнице». Майоров не был ни достаточно сильным помощником, ни оппонентом. Бабанова была в спектакле предоставлена самой себе. Вровень ей был только Абдулов. Это станет особенно очевидно, когда Алексей Дмитриевич Попов привезет из Свердловска свою постановку «Давным-давно»[237] в Театре Красной Армии, которым он руководил после ухода из Театра Революции и где удачей окажется не одна роль, а весь спектакль.
В Ташкенте Бабанова продолжала играть прежние свои роли — графиню Диану и Таню. Ее многочисленные заявления о включении во фронтовую бригаду пресекались в корне: кому-то надо было нести репертуар.
Военный быт местных жителей, потесненных массой приезжих, и самих этих приезжих, вырванных из привычного уклада, был нелегок — может быть, у Марии Ивановны был чуть легче, чем у других. Ее и Кнорре поселили сначала в гостинице, потом в доме правительства; сначала в общую квартиру, потом владелец квартиры, старый и странный человек, заболел и умер. Была другая важная привилегия: сверх литерного пайка каждую неделю давали по два мешка сахарной свеклы. Это была роскошь по тем временам: сахарную свеклу варили, жарили, делали из нее биточки, и Мария Ивановна имела возможность даже подкармливать особо нуждающихся. Так очутился на ее иждивении племянник ее бывшего мужа, Давида Липмана, который попал в Ташкент вместе с бывшим актером ТИМа Виктором Ароновичем Капланом.
Из рассказа В. А. Каплана
«Племянника моего друга Додика пришлось мне почти усыновить по несчастью: родители его были репрессированы. В ноябре 1941 года мы с ним очутились в Ташкенте. Положение наше было в самом прямом смысле бедственным, {269} и однажды, увидев на улице афишу с именем Марии Ивановны, я решился обратиться к ней за помощью. Она сразу приняла очень большое участие в мальчике, одела его, как тогда одеть было трудно. Мне казалось, что, несмотря на свою огромную нагрузку и сложности жизни, она с удовольствием приняла на себя еще одну лишнюю заботу — о мальчике, мать которого знала. При своем не слишком легком характере Мария Ивановна была очень сердобольна, и всегда, когда она могла помочь, она делала это, не задумываясь. Нас она буквально спасла. Она и кормила нас — поневоле мы много времени проводили у нее, хотя я и старался этим не злоупотреблять. Я видел, что она нервничает — в это время с Федором Федоровичем уже была какая-то трещина. Мне не хотелось быть невольным свидетелем семейного разлада».
Ситуация, пережитая на сцене в любимой роли Тани, роковым образом возвращалась в собственную жизнь Марии Ивановны. Если был человек, которого она любила женской любовью, то это был Федор Федорович Кнорре. Но если в жизни своей каждый не раз оказывается перед внутренним выбором, то Мария Ивановна знала, что она-то уже измениться не может и всегда выберет театр, профессию, свою внутреннюю самостоятельность, даже если это будет в ущерб женскому счастью. Ей предстояло на собственном — не легком вовсе — опыте показать, что значили ее слова: женщины, не бойтесь быть одинокими; вы теряете преходящее, находите вечное.
Впрочем, до фактического одиночества в Петровском переулке еще очень и очень было далеко. Пока только первые ласточки летали да шла своим чередом «эвакуированная» жизнь.
Представить себе сейчас, какова она была в действительности, эта жизнь, непросто даже тем, кто сам ее пережил, а объяснить и вовсе трудно. Особенно то значение, которое имело в этой жизни искусство. Именно в эту военную годину заново были опоэтизированы предвоенные годы — уже по одному тому, что были они мирные.
{270} Как бывает в годину общих народных бедствий, физические, бытовые, ежеминутные трудности преодолевались духовным подъемом. Еще не вовсе забытые и вновь вернувшиеся продуктовые карточки, очереди, скудные запасы одежды и в особенности обуви, которые нечем пополнить, скученность, перед которой обычный коммунальный быт выглядел роскошью, а главное, оторванность от дома — все это не то чтобы не замечалось, но ощущалось временным, рождало энергию стремления к мирной жизни, которая, казалось, после войны будет особенно прекрасной. Если у человека есть шестое чувство, то в военном быту им стало чувство страстного ожидания. Ожидания писем, ожидания сводок, ожидания возвращения домой и общего ожидания победы. Оно рождало ту особую «соборность», которая своим местом сделала концертные залы и театры. Никогда при нас театр не имел такого всенародного смысла и всенародной любви, как в это время. Недоедающие и плохо одетые, усталые и озабоченные, по вечерам люди тем более устремлялись в филармонию или в театр пережить потрясение, получить развлечение и просто приобщиться к чему-то общему, одинаково всем дорогому.
Города, которые до того были вовсе не театральными, оказывались вдруг не только временным пристанищем театров, но насквозь пораженными театральной лихорадкой. Люди, которые, быть может, никогда бы в театр и не собрались, ходили на спектакли по нескольку раз. В военных госпиталях, на неприспособленных сценах клубов — везде шли, нужны были, требовались концерты и спектакли.
Так было и в Ташкенте, и, наверное, никогда Мария Ивановна не играла «Таню» так, как в это время, когда арбатские переулки и Сокольники в снегу казались далекими и несбыточными. О громадном воздействии этих спектаклей я услышала от писателя Эдуарда Григорьевича Бабаева маленькую новеллу.
Рассказ Э. Г. Бабаева
«В Ташкент я переехал с отцом за несколько лет до войны. Город был не театральный и не литературный — интеллигенция Ташкента искусству предпочитала природу. Было принято выезжать на пикники, загородные прогулки. Как вдруг началась война. Как будто удар Перуна — в город начали съезжаться со всех сторон литераторы, театры, люди искусства. Приехал Чуковский, Анна Ахматова. Приехал Театр имени Ленинского комсомола с Берсеневым, Гиацинтовой и Бирман и Театр Революции с Бабановой — он разместился в Доме офицера. Был еще Еврейский театр с Михоэлсом и Зускиным.
Нас было несколько мальчиков, которые писали. Корней Иванович Чуковский узнал об этом, попросил собрать наши тетрадки и показать ему. Собрали. Он прочитал и сказал: “Прежде всего надо накормить этих ребят”. Так мы познакомились с ним.
К Ахматовой я просто подошел как-то на улице, заговорил с ней и с тех пор стал ходить к ней пить чай.
Но для меня светом всего была Мария Ивановна Бабанова. Смешно и странно: к Ахматовой я не побоялся подойти, не стеснялся ходить к ней в гости; о том, чтобы подойти к Марии Ивановне, мне даже не мечталось. Она была недоступная, звезда, богиня.
Я перевелся в школу для детей офицеров — она ничем не отличалась от прочих, кроме одного: находилась на территории Дома офицера, где играл {271} Театр Революции. До сих пор помню этот зал бывшего офицерского собрания: по углам какие-то геральдические украшения, а в них окошечки, куда вставлены были портреты Буденного и Ворошилова.
Особенно любили все, конечно, “Таню”. Замечу одну странность: психологически было главным, чтобы на сцене все оставалось, как было. Хотели смотреть старые спектакли. Не хотели пьес, написанных “сейчас”. Помню эксперимент Театра Революции с пьесой, кажется, Погодина, “Московские ночи” — спектакль просто не приняли, он сошел. Зато, когда видели “все, как было”, люди радовались, плакали — мне кажется, эта внутренняя потребность в неизменности была связана как-то с верой в победу. Если на сцене идет “Таня”, значит, все вернется. Мне кажется, и актеры играли с этим чувством.
Сейчас я пишу один рассказ — о лейтенанте, который потерял на войне все и всех и случайно его занесло в госпиталь в Ташкент. И вот, выйдя из госпиталя, он сидит в театре и смотрит “Таню” с Бабановой, которую он видел в Москве. Герман говорит: “Снег идет”, и Таня отвечает: “Пусть идет”. И в этой Таниной интонации для него заключено так бесконечно много, что он не то чтобы плачет, но видит все сквозь сияние радуги в глазах. Так было для многих тогда. Глава эта называется “Я помню чудное мгновенье”.