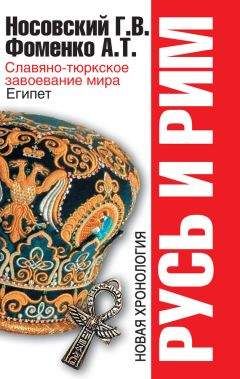Наталья Крымова - Владимир Яхонтов
Он умывался, читая этот текст.
Надо отдать должное смелости режиссера и его вере в исполнителя. Сценическая ситуация рискованна, легче легкого было оказаться в ней смешным. Но Яхонтов был прекрасен — он умывался так, что во все стороны сцены, сверкая в свете прожекторов, летели брызги, а у актера мокрым было только лицо. В музыке шла прелюдия Баха, и в этих «журчащих, свежих звуках» еще ослепительнее сверкали на лету капли. «…Как сильно дует резкий мартовский ветер! Пахнет 1871 годом — в Париже, 1848–1849 годами — повсюду и 1917 годом в России. Сегодня это глубоко волнует мое сердце. Недавно взял в руки „Одиссею“ — художественность несравненная…».
Либкнехт вспоминает гениальные гомеровские гекзаметры. Яхонтов читал их, стоя с мокрым лицом перед публикой, в этом было какое-то особое величие:
Музы — все девять — сменяяся, голосом сладостным пели
Гимн похоронный; никто из аргивян с сухими глазами
Слушать не мог сладкопения муз…
Письмо Либкнехта из тюрьмы заканчивается словами: «Проклятое бессилие! Я бьюсь о стену…».
Лицо актера было еще мокро. Но начиналась уже следующая картина — «Воздушный бой», а потом — бомбардировка Парижа. Перед зрителями — английский летчик. Напряженное лицо, глаза следят за боем. Капли воды — уже как капли пота. Глаза вверх — следит за небом, вниз — видит землю. По взгляду, метнувшемуся в сторону и вниз, понятно, что машина, шедшая рядом, вдруг скрылась из вида… Еще несколько секунд, удар — и смыкаются веки. Молчание. Смерть.
Как из небытия — возвращение на землю. На Париж падают бомбы. Далеким воспоминанием звучит:
Было время, процветала
В мире наша сторона:
В воскресение бывала
Церковь божия полна…
«…29 марта один из снарядов попал в переполненное помещение церкви. 88 человек было убито и 68 ранено». Строфа Державина: «…Как прах, взметнула до небес», — и опять:
— Заградительный огонь!
— Тревожащий огонь!
— Разрушительный огонь!
— Огневое нападение!
— ОГНЕВОЙ ВАЛ!
Апофеоз ярости, крови, разрушения. Какими словами передать ужас, ниспосланный на людей с неба? Актер вставал на колени, перебрасывал плащ через плечо. Воздевал руки к небу. Вот тут и звучал псалом Давида, с детства знакомый Яхонтову речитатив: «Расторгнем узы их…» Но теперь в эти слова был вложен такой гнев и такая страсть, которых, конечно, не слышали стены ярмарочного собора в Нижнем Новгороде:
«Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их… Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника…».
Он поднимался с колен, и опять, еще страшнее, раздавалось:
— Разрушительный огонь!
— Огневое нападение!
ОГНЕВОЙ ВАЛ!
Опять на колени, плащ через плечо, отчаянно воздетые к небу руки:
«…Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обнажены, как головня… Свергнем с себя оковы их!» От горестного отчаяния — к пафосу конечного приговора. Справедлив был гнев и святой была вера в то, что должны пасть оковы.
Прояснялось, успокаивалось лицо актера. Он как бы возвращался к зрителям. Выходил на самый край авансцены и читал торжественно и ясно (он разыскал эти слова у Энгельса):
«Вот куда, господа короли и государственные мужи, привела ваша мудрость старую Европу. И если вам ничего больше не остается, как открыть последний великий военный танец, — мы не заплачем… Но если вы разнуздаете силы, с которыми вам потом уже не под силу будет справиться, то, как бы там дела ни пошли, в конце трагедии вы будете развалиной…»[13]
Однажды в Бетховенском зале, когда кончился спектакль «Война», зрители сидели молча, не аплодируя. Яхонтов тоже стоял молча. А после паузы начал снова, с картины морского боя. И снова сыграл весь спектакль, целиком.
…Спустя десять с небольшим лет он вспомнил белые ночи и чужой кабинет, выходящий окнами на Марсово поле, где они с Поповой готовили «Войну». По всей комнате, от стены к стене, лежали бумажные ленты — тексты, тексты, тексты. Ленты удлиняли, что-то подклеивали, что-то вырезали. Яхонтов ходил в этом бумажном лабиринте, всматривался. Пробовал «на голос», отмечал длинноты, бормотал про себя, заучивал. Память работала, как прекрасный механизм, — не вбирала лишнего и безо всякого труда принимала в себя необходимое. Кончился период опасений, растерянности от обилия материала. Готовый текст, как кинолента в коробку, укладывался в голове артиста, и вот уже можно уничтожить бумагу — память хранит все нужное, и это надежней, чем шкафы в чужих квартирах или дорожный чемодан.
Работа подходила к концу. Бледная ночь на Марсовом поле сменялась утренней зарей, и это зрелище было прекрасным.
Они сознавали, что сделано что-то значительное, в истории театра, может быть, небывалое. В ту весну 1930 года они не могли сознавать только, какой страшный пророческий смысл в их «Войне» заключен. «Я никогда ни на одну минуту не предполагал, — говорит Яхонтов, — что немецкие авантюристы направят свои длинные пушки на Ленинград». Но создавался спектакль о военном авантюризме, самом опасном и коварном из всех видов авантюризма, известных истории.
* * *Трагическая «Война» ставилась в «Современнике» почти одновременно со спектаклем «Да, водевиль есть вещь!». Волей обстоятельств «Водевиль» работался частями: «Домик в Коломне» был давно готов, «Тамбовская казначейша», подготовленная Поповой для двух актеров, поначалу входила в спектакль «Пиковая дама». Когда же родилась мысль о целой постановке, к двум первым «пьесам» присоединили третью — «Коляску» Гоголя. В спектакле не было сложного монтажного смешения текстов. Три акта — три классические шутки. Самое веселое и самое «игровое» представление «Современника» дало выход накопившемуся театральному азарту Яхонтова.
О режиссерском даре Поповой самое время сказать отдельно.
Еликонида Ефимовна Попова прекрасно усвоила режиссерские уроки Мейерхольда. Но так сложилось, что эта женщина, наделенная многими талантами, из которых слагается режиссерская профессия, всю себя отдала театру лишь одного актера — Яхонтова. Вряд ли она с таким же успехом могла бы работать в обычном театральном коллективе. Ее формирование как режиссера началось применительно к Яхонтову и на нем замкнулось. При всей широте интересов и знаний, в каком-то отношении она осталась дилетантом — возможно потому, что иного театра кроме яхонтовского на практике не испробовала. Ее режиссерская судьба так же связана с Яхонтовым, как его композиции. В театре «Современник» все создавалось, формировалось, находило и утверждало себя в едином комплексе: драматургия — режиссер — актер. Одно из слагаемых, взятое само по себе или помещенное в другое окружение, ощутимо теряло силу.
Самым могучим и определяющим «слагаемым» был Яхонтов. Иногда он мог оставаться один — тогда он пользовался уроками Поповой, благо отделить их от себя уже не мог. Попову же одну или работающую с кем-то другим трудно себе представить. И то и другое случалось, но это всегда было драмой.
Многие из сегодняшних мастеров слова ей благодарны — она ко всем, с кем работала, была максимально внимательна. Но чтобы ее собственная музыка была слышна, нужен был такой инструмент, как Яхонтов.
Немирович-Данченко требовал от режиссера мхатовской школы умения растворяться и умирать в актере. Удивительно, но при Яхонтове находился режиссер именно мхатовского толка, единственным профессиональным образованием которого были репетиции… Мейерхольда.
Попова бесчисленное количество раз «умирала» в Яхонтове. И он привык к этому. Она одна знала все стороны и все мельчайшие особенности его индивидуальности и его характера — замечательную силу его интуиции; с годами пугающе ощутимый предел его психических сил; феноменальный диапазон голоса; способность на лаконичный (иногда только звуковой) подсказ откликаться мощной волной чувств, ассоциаций, звуков. Она знала все способы, которыми этот капризный художественный аппарат можно привести в состояние творчества, и все причины, которые его из этого состояния выбивают; все стимулы, все границы, все потенциальные возможности. Она знала про Яхонтова все. И потому она, и только она, нужна была ему в работе, а без работы он не мыслил жизни.
«Надо думать театром», — пишет Яхонтов в книге. Это она, Попова, учила его думать не маленькой актерской задачей, а целым театром. Она первая угадала его внутреннюю несовместимость с любым театральным коллективом и тот собственный театр, который он носил в себе, не зная, как его открыть и назвать. Попова помогла этому трудному рождению. Еще не ориентируясь толком в «школах» и «направлениях», она почувствовала в человеке рядом с собой нечто такое, что хоть и связано каким-то образом с разными «школами», но и свободно от них, и только так — отдельно и независимо — может существовать. Он обрекал себя на одиночество в искусстве, и она его поддерживала, так как лучше всех понимала этот дар, замкнутый на себе, редчайший по размаху и бесконечно, постоянно нуждающийся в публичной реализации.