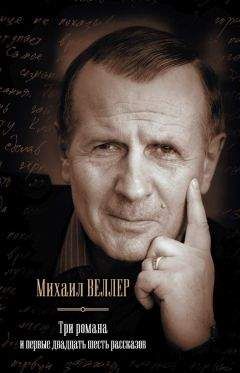Михаил Левитин - Таиров
Живя в РСФСР, она вела дневник, а в нем два списка: один — благодеяний советской власти, другой — преступлений. Это был тайный дневник. И вот, чтобы скомпрометировать бедную Лёлю, не дать ей вернуться из-за границы, ту часть, где преступления, из дневника выдрали и опубликовали, а обнаружили сам дневник в салоне некой мадам Трегубовой, в котором Лёля Гончарова заказала себе серебряное платье, чтобы прийти на бал знаменитостей, где, возможно, будет Чаплин, с которым она мечтает встретиться и посоветоваться, что ей делать — возвращаться в СССР, не возвращаться. Дневник Лёля случайно забыла в салоне, а белогвардейские дружки мадам Трегубовой нашли его и воспользовались.
Одним словом, блестяще выполненная литературно-драматургическая абракадабра. Это было время, когда приходилось бить себя кулаками в грудь, доказывая свою лояльность советской власти. И Олеша, и Мейерхольд любили это делать, принося в жертву не только противников, но и своих старых друзей.
Прототипом Лёли Гончаровой, если так можно выразиться, якобы явился великий Михаил Чехов, эмигрировавший в двадцать восьмом году и с тех пор все никак не способный обрести на Западе место. История же с серебряным платьем наверняка была подсказана Олеше Мейерхольдом, и не без злорадства. Ведь точно такое же платье приняла в подарок от модного дома Молине во время первых гастролей Камерного в Париже Алиса Коонен. Приняла почти даром, оплатив только стоимость материала.
Парижское платье из серебряных кружев. На банкете, устроенном в честь закрытия гастролей, она была неотразима.
С тех пор прошло десять лет. Но не в правилах Мейерхольда было забывать об уязвимых местах в биографии противников. И вот в тридцать втором, после того, как он сам был буквально выковырен советской властью из-за границы, где никак не мог решиться — вернуться, не вернуться, — требовал прислать на гастроли Театр имени Мейерхольда, и все-таки по настоянию своей жены, Зинаиды Райх, вернулся, вспомнил Всеволод Эмильевич эту самую всем известную историю про платье для Коонен и пересказал Юрию Олеше. А тот написал, блестяще написал — и о белогвардейцах, и о салоне мадам Трегубовой, и о случайно забытом там дневнике Лёли Гончаровой, где злополучный список, а дальше всё, что полагается писать в таких случаях.
И никто из них не вспомнил, что на совещании, посвященном нежеланию Мейерхольда вернуться, именно Таиров сказал, что нельзя обвинить Мейерхольда, следует разобраться, что вообще происходит в сферах руководства искусством, если окончательно уехал Чехов, упрямится возвращаться Мейерхольд, крепко задерживается в Париже Грановский с Еврейским театром.
Не вспомнил об этом Всеволод Эмильевич, вернувшись. Политические инсинуации уже начинали входить тогда в моду, ими очень умел пользоваться Мейерхольд. И это не было для красного словца — он хорошо знал, что делает, он сводил счеты и одновременно клялся в верности, добиваясь прощения за мороку с невозвращением. Но напраслина, возведенная на другого, уже не могла в то время спасти тебя самого.
И все-таки в 1935 году, после третьих гастролей Камерного, уже не только по Европе, но и по Латинской Америке, Сталин наконец окрестил театр буржуазным, вероятно, имея в виду его успех у Запада. С отменой этого определения, при всей своей ловкости, Александр Яковлевич никак не мог справиться, так и ходил, к общему удовлетворению, буржуазным.
Так вот, за роковое платье, не вызвавшее никакого осуждения в двадцать третьем, могло крепко влететь в тридцать втором. Но даже знай Таиров и Коонен, как изменится время, им и в голову не пришло бы остаться. Они мечтали вернуться с триумфом для своей страны. Даже наедине, даже мысленно не вели они подобных разговоров.
В отличие от Чехова и Мейерхольда им всё было ясно. Есть единственное государство на свете, создающее новое искусство, а в этом государстве — культурные государственные деятели, которые не дадут их в обиду, самые доверчивые в мире зрители, и конечно же свое гнездо на Тверской, в котором есть все для жизни.
Коонен заслужила серебряное платье, ей и в голову не приходило раздваиваться душой, торговать одной из половинок списка. Она была такой же цельной, как ее муж, вся принадлежала Камерному театру, а так как он находился на территории Советского государства, то и этому самому государству. Они успели оценить благодеяния советской власти, устроившей ей эти самые гастроли, из которых, несмотря на очень большой успех, театр вернулся с большим финансовым дефицитом, объясняя это, в основном, конфликтом Франции и Германии из-за Рура. Газеты уделяли внимание оккупации Рейнской области немногим больше, чем гастролям Камерного, и Коонен, в эйфории успеха, иногда вспоминая, что живет в реальном мире, расспрашивала Таирова о происходящем.
— Что там происходит, Саша? — спрашивала она. — Неужели нам опять не повезло?
— Ситуация интереснейшая, — обычно начинал с этой оптимистичной фразы Таиров. — Французы хотят окончательно унизить немцев, немцы сами провоцируют их на унижения, желая доказать всему миру, что Версальские договоренности выполнить немыслимо. Англичане боятся уступить влияние на европейские дела Франции, а мы ждем, когда немецкому пролетариату все это надоест и произойдет революция. И она произойдет непременно. Прежде всего в Германии.
— Значит, мы правы? — спрашивала Алиса. — Объясняй проще.
— Правы, как всегда, — смеялся Таиров. — Только, пожалуйста, ни о чем не думай, кроме сегодняшней «Адриенны».
А между тем в Париже восторгались Камерным, ниспровергали, спорили, ни на одну минуту не забывая, что мир снова на грани войны.
Все это придавало особую остроту гастролям, которые рассматривались действительно как десант, высаженный советской властью, чтобы повернуть события в свою пользу.
Девять месяцев длились эти небывалые гастроли, такое никому потом из советских театров не удавалось, и за эти девять месяцев Таиров был назван магом мизансцены, а Коонен — второй Сарой Бернар. Первая Сара умерла за день до начала гастролей Камерного и не успела увидеть своей преемницы.
Смерть Сары Бернар, захват французами Рура, серебряное платье модного дома Молине — ничто не помешало Таирову убедить и друзей, и врагов, что настоящее искусство делается в пока еще нищей и голодной России.
Как ему удавалось держать Париж в заблуждении, что это и есть самое новое пролетарское искусство, никто не знает. Надо быть Таировым, чтобы самому в это поверить и убедить других.
Камерный после революции работал так же и по тем же правилам, что и до нее. Может быть, только с большей страстностью и с четкой гарантией благополучия. А так — чем Таиров владел всегда, с четырнадцатого года, то и демонстрировал. Но у незнания, как и у страха, глаза велики, и вот уже пишет Жан Кокто об особом дикарском исполнении «Федры», о беззаконии таировских интерпретаций французских драматургов, о беззаконии, долженствующем стать законом.
За ними ездят из города в город, Таиров читает бесконечные лекции, объясняя метод Камерного. «Записки режиссера», единственную его книгу, совсем недавно изданную в России, переводят на немецкий. Пикассо, Леже, Макс Эрнст, лучшие художники и артисты обеих стран ищут знакомства с ним. Он театральный кумир на все это время, а может быть, и на более долгие времена, но все это так быстро входит в кровь искусства, поглощается им, что потом негде искать даже ссылок на влияние, да и нужно ли их искать?
Сорок пять лет спустя недолго прослуживший в Театре Пушкина, бывшем Камерном, Владимир Высоцкий расскажет, что на репетициях какого-то ничтожного спектакля, по ходу которого надо было рвать письма, он случайно обнаружил, что поданные ему реквизитором конверты — не что иное, как письма к Таирову не то Кокто, не то Леже, и навсегда поразился силе забвения.
Таиров улыбался. Количество расточаемых им улыбок соответствовало количеству произнесенных фраз.
Он был просто гением общения, причем делал это на двух языках, ориентируясь в остальных. Луначарский торжествовал, он знал, что предложить загнивающему Западу.
Камерный театр был ничем не хуже чичеринского фрака на Генуэзской конференции в двадцать втором, вместо всеми ожидаемой пролетарской косоворотки. Нет доказательств, кроме рецензий, любовно собранных Рафаилом Рафаловичем, гимназическим другом Таирова, бросившим юриспруденцию, чтобы стать завлитом при своем друге, нет доказательств, кроме ссылок на Таирова театральных деятелей Запада, нет доказательств, кроме слов, его влияния на европейский театр. Ничего нет, кроме внезапного причисления к лику святых в пославшей его на гастроли стране — портрет сразу после Станиславского, Немировича, Вахтангова и Мейерхольда. И памяти никакой не осталось от Камерного театра.
Ну и не надо.
![Лидия Кудрявцева - Этот ребенок - я сам[статья]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)