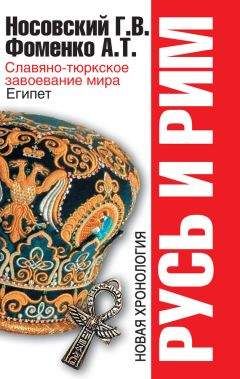Наталья Крымова - Владимир Яхонтов
Грозным символом выступал портной Петрович. У Гоголя про него сказано: «Об этом портном, конечно, не следовало бы много говорить, но так как уже заведено, чтобы в повести характер всякого лица был совершенно означен, то нечего делать, подавайте нам и Петровича сюда». Яхонтов эту замечательную фразу сокращал, но так как характер лица должен быть «совершенно означен», он этого Петровича действительно подавал, как могущественную и устрашающую Акакия Акакиевича силу.
Первой такой силой выступала свора шалунов-чиновников, издевающихся над бедным Башмачкиным; второй — оказывался жалкий пьяница Петрович. Могут спросить — но почему же силой и почему грозной? Зачем артисту садиться по-турецки или брать в руки гигантские сверкающие ножницы и орудовать ими где-то около шеи? Дело в том, что, на горе Башмачкину, в минуту их свидания Петрович был трезв, а значит, сердит и власть свою вокруг распространял с не меньшим величием, чем какой-нибудь падишах.
Власть! Магическое для героев спектакля слово. Император Петр на коне — власть. Дождь, мешающий беднякам выйти на улицу, — власть. Нева, которая смыла с лица земли Парашу, ее мать и их домик, — власть. И Петрович с ножницами в руках — тоже власть, трагикомический, парадоксальный ее образ.
Вокруг, куда ни оглянись, — власть, и шеи населяющих «Петербург» героев сами собой гнутся.
На этом строился пластический рисунок начала «Шинели». Яхонтов описывал внешность Акакия Акакиевича, стоя в позе просителя с цилиндром в руке, и при каждой следующей фразе сгибался все ниже и ниже — так гнется мелкая сошка, пришедшая поздравить начальство с праздником и ожидающая подле швейцара в передней. Не разгибая спины и не надевая цилиндра, он произносил, выделяя, хоть и с робостью, но все же ударениями, слова-приметы, почти рифмуя их, и после каждого делая короткую, но многозначительную паузу:
«…чиновник, нельзя сказать, чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысинкой на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица, что называется гемо-ро-и-даль-ным…»
Цилиндр надет, спина выпрямилась: «Что ж делать! Виноват петербургский климат!» И, — небрежной скороговоркой — «Имя его было: Акакий Акакиевич…»
«Ге-мо-ро-и-даль-ный» — так, будто речь шла о наиважнейшем, наивысшем в каком-то смысле знаке отличия. Прочие признаки — «рябоват», «рыжеват», «подслеповат» — с резким ударением на последнем слоге, с нарастающей интригующей нотой в голосе. Венчало все это неожиданно подчеркнутое, недоуменное «по обеим (!) сторонам щек» — будто у всех, если и бывают морщины, то «по одну сторону», а вот у нашего героя и морщины особенные — «по обеим сторонам». Смысл как бы выворачивался наизнанку: незначительное увеличивалось, заурядное выступало из ряда, интриговало тайной, обрываясь неожиданным и небрежным: «Что ж делать! виноват петербургский климат…»
Так, на внезапных подъемах и столь же не соответствующих житейской логике спадах рисовался, вернее, игрался Акакий Акакиевич. Когда дело доходило до Евгения, которого «пушкинские стихи облачают в некое величие», интонации менялись. Неуловимо менялась и осанка — дворянская выправка, красивая посадка головы, гордый взгляд.
О мощный властелин Судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте уздой железной
Россию поднял на дыбы?
«Протест против бесправия переполнял феноменальный яхонтовский голос и доводил его почти до предельной силы звучания… Между тем взгляд исполнителя ни на секунду не отрывался от намеченной с самого начала точки где-то в вышине, так что мы привыкали уже к тому, что именно там находится… монумент. Потом Яхонтов делал паузу, не выпуская глазами „горделивого истукана“, потом, все не отрывая от него глаз, склонялся как-то боком с опаской в сторону от монумента, как бы дичась его, слегка заслоняясь правым плечом. Мы внезапно видели перед собой… Евгения!
Вдруг в этом согбенном человеке пробуждалась отчаянная смелость.
Правая рука его, снизу слева описывая полукруг, взметывалась вверх направо, точно туда, где восседал на коне император; указательный палец напряженно устремлялся прямо в его лицо, обличая: вот преступник!
На этот жест ложилась точно рассчитанная по времени фраза: „Есть в Петербурге сильный враг…“»
Так этот момент описывает Я. Смоленский. Другие очевидцы добавляют: начало гоголевской фразы, перебивающей строки Пушкина («Есть в Петербурге сильный враг…»), Яхонтов провозглашал торжественно, медленно и — резко снижал интонацию, мелко семеня словами: «…всех, получающих четыреста рублей в год жалованья или около того». Опять торжественно: «Враг этот…» — и, как ни в чем не бывало, прозаической скороговоркой: «…не кто другой, как наш северный мороз, хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров». И руки потирали друг дружку от холода…
Бегут, семенят на службу продрогшие чиновники — опять мелко-мелко семенят слова текста, пока в каком-то месте опять не обретут пафос. Но теперь это уже другой, так сказать, канцелярский пафос. Прибежав в департамент, чиновники долго топочут в швейцарской, «пока не оттают таким образом все замерзнувшие на дороге (далее — с пафосом) способности и дарованья к должностным отправлениям». Будто у человека уже нет ни головы, ни рук, ни ног, а только «способности и дарованья к должностным отправлениям». Интонация похожа на витиеватый росчерк канцеляриста на казенной бумаге, по содержанию самой что ни на есть пустой.
Торжественность, то «канцелярская», то «государственная», всегда одическая по звучанию, но разнообразная по наполнению, тоже входила в «интонационный набор» «Петербурга».
В финале первого акта Яхонтов выходил на авансцену крайне осторожно — все три его героя оказывались перед неизвестностью. И так же осторожно, как бы припоминая голоса, звучавшие только что в полную силу, повторял три реплики, выделяя в них одно, общее слово:
— Неужели же могут жить под таким небом разные сер-ди-тые… люди?
— В департаменте… но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сер-ди-тее всякого рода департаментов… — поворачивался и удалялся на цыпочках за кулисы. Оглянувшись и как бы прощаясь с уснувшими в своих жалких постелях героями, он произносил последнее, из «Медного всадника»:
— И чтобы дождь в окно стучал не так сер-ди-то…
Этим аккордом, сливавшим многие звуки в один музыкальный лад, он заканчивал, как пианист последним ударом по клавишам.
* * *Спектакль не был ни громким, ни, естественно, массовым. Его играл один актер на минимальной по размерам площадке и кроме человеческого голоса в нем не звучало никаких других звуков. Но захваченное им пространство было огромно, а предгрозовое настроение пронизывало его насквозь. Оно как бы приподымало и обнаруживало все скрытое, интимное — так на волнах вышедшей из берегов Невы поднимались предметы домашнего быта, дотоле не видимые стороннему глазу.
То, что в «Медном всаднике» с городом проделывает Нева в ночь наводнения, в спектакле было проделано решительно со всеми «местами действия», благо все они находились в том же городе. Дома, каморки, черные лестницы, мансарды, канцелярии, департаменты — всюду, где были двери, их будто выломали. Словно мощный сквозняк выдувал людей из комнат, устоявшиеся запахи из домов и лестниц. У Гоголя про лестницу в доме портного сказано, что она «была вся умащена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов». Эта фраза из «Шинели» была, кажется, сокращена, хотя можно представить, как обыграл бы Яхонтов необычное слово: «спиртуозный». Но — не было затхлых запахов, не было дверей, перегородок, отдельности.
Создатели спектакля проявили не только художественную, но, можно сказать, общественную прозорливость, решившись соединить «Шинель», «Медный всадник» и «Белые ночи». Герои были смешаны в некую толпу и, хотя, как бывает в толпе, каждый жил своим стремлением и своей заботой, но при том вся толпа словно мчалась куда-то, в испуге перед мощной стихией. Сначала стихия «вздувалась и ревела» за окнами, потом, «как зверь остервенясь», кинулась на город. И все смешалось и побежало. «Народ зрит Божий гнев и казни ждет. Увы! все гибнет: кров и пища. Где будет взять? В тот грозный год…»
Всех потряс «поток информации», обрушенный на зрителей одним актером. То, что в сознании современников существовало раздельно и как бы в разных сферах, в спектакле воссоединилось и отозвалось самым неожиданным образом.