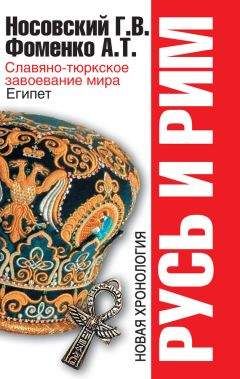Наталья Крымова - Владимир Яхонтов
(Тема Достоевский — Маяковский, возможно, еще ждет исследования. В мемуарной литературе попадаются на то указания: «С удивлением выслушал я брошенную мимоходом, но все же высочайшую оценку Достоевского… — вспоминает свой разговор с Маяковским Симон Чиковани. — Тридцать лет спустя один из друзей Маяковского доказывал мне, что тот в ранней юности испытывал сильное влияние Достоевского, и это мне показалось убедительным, но в ту давнюю пору я не мог этого понять». Стоит перечитать одну за другой такие поэмы, как «Облако в штанах», «Люблю», «Флейта-позвоночник», представить себе их героя, мечущегося в тисках площадей и улиц, переполненного «громадой любви» и «громадой ненависти», вообразить себе его отношения с городом, с женщиной, с богом, с дьяволом, — и тень Достоевского возникнет. Оставим эту тему полу-гипотезой. Так или иначе, влекомый художественным инстинктом, Яхонтов, вполне вероятно, задел какую-то подпочвенную связь, когда в поисках конечной современной интонации трагического спектакля решил завершить текст Достоевского стихотворением «Дешевая распродажа». Он обратился к Маяковскому за тем, за чем всегда к этому автору обращался — за помощью.)
Произведения Маяковского становились поэтической основой сложных яхонтовских композиций («Ленин», «Надо мечтать»), а некоторые — самостоятельными спектаклями. Не всегда и не все проходило гладко, — как и у самого поэта. Когда в 1923 году Маяковский опубликовал поэму «Про это», критики, с грехом пополам привыкшие к облику агитатора, не брезгующего моссельпромовской рекламой, были озадачены возвратом к трагедийной любовной теме. Яхонтов выпускал «Про это» в 1940 году. Попова пишет в одном из писем, что «товарищи, принимавшие программу, нашли неудобным читать эту поэму с эстрады… Мотивировка Реперткома заключалась в том, что тема любви Маяковского звучит нехорошо в связи с линией на укрепление семьи и советской морали». Яхонтов, однако, на этот раз не уступил, нашел товарищей, стоящих над теми, кто принимал его работу, и таким образом одолел ханжество. Премьера «Про это» прошла с успехом. «Воскреси — свое дожить хочу!» — были последние, перед войной прочитанные строки Маяковского.
Попова как-то заметила, что во время войны коллеги Маяковского по перу испытали острое чувство отсутствия Маяковского в своих рядах. «Что касается нас, мы воевали вместе с Маяковским», — сказала она, имея в виду, что за четыре года войны, кажется, не было дня, когда стихи поэта так или иначе не входили бы в их работу.
Итак, всю жизнь — с Маяковским. Не прерываясь, с 1930 года шел процесс поисков исполнительского стиля стихов, которые в сознании многих современников были неотделимы от зычного голоса их автора.
Очень скоро Яхонтову стало ясно: подражать нельзя. Это бестактно, это исключается человеческой этикой и художественным вкусом. Это, в конце концов, художественно невыгодно ни для Маяковского, ни для артиста Яхонтова. (Простая истина, но сколько таких подражателей до сих пор бытует на наших подмостках.) Из-под магии авторского исполнения надо высвобождаться во что бы то ни стало. Из того, что выработано поэтом как сценическая манера, нужно взять лишь то, что действительно неотделимо от его поэзии. Во всем остальном надо идти своим путем.
Но в том, как читал свои стихи Маяковский, явно скрывался некий секрет, который предстояло разгадать. Многие законы «театра Маяковского» были поняты Яхонтовым еще при жизни поэта. Теперь предстояло разгадать тайну его звучащего слова.
Интересны впечатления тех, кто внимательно слушал, как читает Маяковский, и особенно тех, кто с ним на эту тему серьезно разговаривал.
Например, Симон Чиковани говорит, что Маяковский авторскому чтению придавал настолько большое значение, что порой определял этим качество стихов. Он был убежден и горячо убеждал других, что «если поэт плохо читает свои стихи, то это свидетельствует о несовершенстве самого произведения. Каждая поэтическая строчка… основана на возможностях собственного голоса».
Василий Каменский уверен, что «так потрясающе превосходно читать, как это делал сам поэт, никто и никогда не сумеет на свете. Это недосягаемое великое дарование ушло вместе с поэтом безвозвратно», и передает слова Маяковского: «Вот сдохну, и никакой черт не сумеет так прочитать. А чтение актеров мне прямо противно».
Яхонтов еще с начала 20-х годов стал внимательно прислушиваться к авторскому исполнению и тоже очень скоро отвернулся от «актерского». Со временем он нашел тут поистине золотую середину, но в «камертонности» авторского чтения убедился прежде всего на примере Маяковского. «Если бы когда-нибудь мне приснилось, как читал свои стихи Пушкин, — ну хотя бы четыре строчки прочел, — это сократило бы мне двадцать лет труда», — сказал он как-то уже в конце жизни.
Читая, Маяковский раскрывал природу своей поэзии, реформировавшей прежде всего сферы ритма и потому так рассчитанной на звучание, на поэтическое и музыкальное интонирование. Рубленые строки, взрывная неожиданность прозаизмов, распирающая стих изнутри энергия звука — все это, будучи положено на его голос, получало глубокое внутреннее оправдание и открывало какие-то еще неведомые способы воздействия поэзии на слушателей.
Многое Яхонтову открыла статья «Как делать стихи». Он нашел подтверждение тому, о чем думал, таясь, не зная, соотносятся ли эти его догадки с серьезными мыслями о природе искусства. И вот он прочитал у Маяковского: «Ритм — основа всякой поэтической вещи, проходящая через нее гулом».
Ему, Яхонтову, всегда помогали звуковые и зрительные впечатления — далекие, оставленные где-то в детстве, недавние, гул которых еще не смолк. Они выплывали сами, будто повинуясь чьему-то приказу, и, невидимые, никому, кроме него, не слышимые, выстраивались за текстом, исподволь организуя и его строй.
Почему размеренное шарканье шагов по брусчатке Красной площади звучит в последней части поэмы о Ленине? Отчего, читая «Двенадцать», он видит не Петроград и набережные, а ту вьюгу в Кривоарбатском переулке и слышит тот крик в ночи, от которого сам когда-то шарахнулся в подворотню? И почему, как только он определил взгляд Маяковского словом «длинный» (или это Лиля сказала?), — внутренний покой воцарился в стихах, и они замедлили свое движение?
Яхонтов кое-что знал о поэтическом ритме, но еще больше чувствовал. Теперь сам Маяковский толкал его довериться этому чувству, этой особой памяти. «Ритм может принесть и шум повторяющегося моря, — и прислуга, которая ежеутренно хлопает дверью, и, повторяясь, плетется, шлепая в моем сознании, и даже вращение земли, которое у меня, как в магазине наглядных пособий, карикатурно чередуется и связывается обязательно с посвистыванием раздуваемого ветра», — так писал Маяковский. А Яхонтов, работая над стихотворением «Мелкая философия на глубоких местах», замечал: «„Превращусь не в Толстого, так в толстого“… — это или покатость волн или спина дельфина, но в строке есть какой-то перекат, какая-то округлость и, по смыслу, переход из одного явления в другое… Может быть, это плечи Маяковского, его походка. Тут нужно медленное чтение, медленность…» Море, прислуга, вращение земли… Поэт не боялся, открывая свою лабораторию, ставить рядом несопоставимые вещи. Значит, не надо бояться. Речь идет о природе поэзии, а истинная поэзия не высокомерна, она захватывает в свое поле решительно все вокруг, не делая различия между величинами космическими и мизерными.
Маяковский видел мир постоянно в движении (Попова говорит о «картинности», «живописности» его поэзии, это тоже верно, но у Маяковского нет статики, у него все в переменах, сдвигах, динамике контрастов и переключений). «Старание организовать движение, организовать звуки вокруг себя, находя ихний характер, ихние особенности, это одна из главных постоянных поэтических работ — ритмические заготовки».
У Яхонтова были свои, актерские заготовки. Поэт из окружающего гула извлекал мелодии, слова, складывал это в строфы. Артист же носил груз своих заготовок, пока не отыскивал уже написанный текст и не выгружал в него собственную кладь. Он соотносил ее с авторским текстом и радовался единству.
Поэт и артист одинаково ощущали наличие в природе и в мире ритмических структур, требующих извлечения и сознательного оформления. Яхонтов говорит о Маяковском: «Поэт, как тончайше вибрирующий инструмент, отзывается на среду, в которой он находится». То же самое он мог сказать и о себе. (Это свойство характера можно заметить по первым главам книги «Театр одного актера» — к ним меньше притрагивались чужие руки.)
Он понял, что сделать своей поэзию Маяковского можно, только уловив и сохранив в самом себе состояние «тончайше вибрирующего инструмента». И тогда второстепенным будет вопрос о том, каков инструмент, то есть голос: контрабас это или виолончель, аналогичен ли звук его бархатным низам голоса Маяковского или можно передать музыку стиха иным тембром и в иных регистрах. Оказалось, можно. Можно, не боясь, переложить этот поэтический лад на свой — яхонтовский — голос.