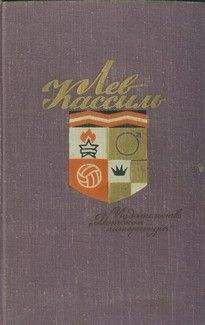Давид Самойлов - Стихи
Не надо полагать, что речь идет о каком-то засушенном вундеркинде, взвалившем на свои неокрепшие плечи всю тяжесть мироздания. То-то и мило, что это обыкновенный, пусть и незаурядный мальчик, беспрерывно влюбленный и со всем жаром переживающий малейшие перипетии наивных и чистых чувств, горячо отдающийся дружбе и школьным событиям и всем реалиям жизни, а не только книжным и поэтическим страстям. Мне кажется, что публикуемый дневник интересен и живым дыханием далеких уже от нас тридцатых годов. Я давно уже думаю, что личное время (его индивидуальное наполнение) выше социального, и счастье может произойти и происходит в самые объективно черные времена, и это один из возможных ответов на сегодняшний вопрос: “А как же вы жили в годы террора, войны, застоя и т. д.?” Тут я всегда вспоминаю поразительную историю, пересказанную драматургом Александром Гладковым со слов Б.Л. Пастернака: двое влюбленных в Петрограде, завороженные друг другом, не заметили революции 17-го года, просто не знали, что она произошла (не хочу думать, что с ними сталось, когда пришлось или их заставили это узнать). Жизнь всегда шире, сложнее и неожиданнее любых ее позднейших или поспешных определений под пером склонных к черно-белой гамме историков. И как хорошо, что можно узнавать о ней разное из уст очевидцев.
3. IX.35 г. Недавно я обещался описать, или вернее, продолжить описание моей деревенской жизни. Сейчас я как раз расположен это сделать.
Я уже сказал, что кроме Жени и Юры я не имел товарищей там. Большую часть дня находился я один. Спал или катался на велосипеде. Вечером обычно собирались мы у ворот Женькиного дома и сидели поздно-поздно. Много ослили, но я чаще молчал. Смотрел на небо, на четко видный Млечный путь, следил за падающими звездами. Загадывал какую-нибудь мысль и ждал и, если в это время пролетал метеор, то был уверен, что желание исполнится.
В такие ночи больше всего думалось о девушках. Тело и ум тонули в каком-то приятном томлении. Комок сладкой тоски сжимал сердце в своих тисках. Неотразимое желание порабощало волю и только одна мысль была в голове: “люблю-люблю”. Кого? Это было все равно. Далекий смех или песни, тихий шепот в тени пробуждали во мне бурное волнение. И долго не спал я, приходя домой, ворочался с боку на бок, смотрел на ослепительную луну в окне, слушал сонное бормотание спящих и мечтал. (…)
В частые и тоскливые дожди, длившиеся в это лето по целым дням, а иногда и неделям, читал философию. Довольно прилично изучил Ленина и Энгельса.
Читал Тургенева и восхищался задушевной дикостью и яркостью “Песни о Гайавате”. Прочел “Записки цирюльника” Джерманетто. Книга понравилась своей чисто итальянской горячностью, задорным огоньком и убежденностью. Еще читал “Черное золото” А. Толстого — авантюрный роман, — и еще несколько книг (Лескова и др.).
В хорошую погоду уезжал к вечеру в поле и смотрел на закат.
Однажды ночью мы (я, Женя, Люся — Женина сестра, — и Сасоныч) отправились воровать и печь на костре картошку.
Как сейчас помню звездную ночь без луны, ничем не нарушаемую тишину и сыроватый ночной холодок.
Деревня скрыта за холмом. Сзади — поле, впереди — лес, кругом тени. Мы идем, негромко разговаривая. На случай взяли длинный японский нож. Смеемся, но как-то инстинктивно вместе с холодом ночи где-то под кожей чувствуется страх. Как что-то скользкое вползает он под рубашку.
В лесу густая тьма. Ломаем ветви и выходим на опушку. Мы с Женькой разжигаем костер, остальные пошли за картошкой. Сырые ветви долго не разжигаются, я жертвую свои письма для растопки. Наконец, ярко сияет костер. Сноп искр улетает в черное небо. Яркий круг света, за ним неприветливая ночь. Ушедших за картошкой все нет. Вскоре появляются и они, благополучно исполнив свое дело. Долго сидим и говорим у уютного огонька, глядя на золотые искры и рассуждая. Поздно идем домой, так и не поев не успевшей поспеть в золе картошки.
Прекрасная ночь! Счастливые часы!
4. IX. Чтобы стать товарищем, надо иметь общие интересы, найти исходную точку; чтобы стать популярным, надо чем-нибудь отличиться, надо кормить сенсациями.
Я люблю быть “своим парнем”, я люблю быть со всеми в хороших отношениях. Дня через два после начала занятий нам выдали тетради. Ребята затеяли драку тетрадями: подойдут и звонко шлепнут по голове. Я пробовал тоже принять в этом участие— подбежал и ударил одну девчонку, она со смехом обернулась, чтобы отомстить, но, увидев меня, скорчила презрительную мину и процедила: “А ты-то еще куда?” Я ушел оскорбленный, но с твердым намерением завоевать популярность и стать своим. Чтобы завоевать класс, надо завоевать его верхушку. Я ждал случая и, наконец, он представился. (…) Вышло это на уроке биологии.
Один парень (Парень этот был Пуцилло. 6.I.36), говоря о функциях человеческого скелета, сказал, что он предназначается для поддержания всех органов и т. д. Биологичка придралась к слову “предназначается”, заявив, что под этим словом мы можем подразумевать какого-то “творца”, который что-то “предназначает”… А творца, т. е. бога, нет.
Тогда встал я и ответил, что пустое утверждение, что “никакого творца нет”, еще ничего не доказывает и глупо делают те, кто принимает его на веру, я же лично совсем в этом не убежден и просил бы представить доводы против существования бога.
Биологичка ответила, что “об этом мы поговорим после”, и просила прийти к ней в кабинет после шестого урока. Я согласился.
Класс, т. е. лучшие члены его, заинтересовался предстоящей дискуссией и многие решили остаться тоже.
Я выбрал поприще, где мог себя проявить.
Два урока играли мы в волейбол и беседовали (у нас было четыре урока), а затем отправились в кабинет по естествознанию.
От лица всех присутствующих я заявил, что мы интересуемся вопросом существования бога, причем представляем его себе не старичком с бородкой, а какой-то высшей силой, движущей миром.
Она говорила долго о физиологии человека, не дала определения, что такое мир, крутила и вертела и ничего не доказала. Скорее она говорила, что я еще многого не понимаю и косвенно намекала, что не стоит интересоваться таким вопросом.
Тогда я выступил с теорией Беркли, свел мир к “комплексам ощущений” и объявил эту теорию неопровержимой. Все заинтересовались этим. Биологичка спустилась к бесплодному высмеиванию. Завтра дискуссию продолжу. В ней двоякая польза: 1) общие интересы с ребятами и популярность, 2) урок тупым учителям, дающим своим ученикам сухие догмы и преследующим критическое отношение к вопросу. Я всегда был противник последнего.
5. IX. Черт знает что за жизнь стала у меня дома! Мне, наконец, пятнадцать лет, мне тесно! Мои родители пропитаны страхом ко всему. Мелочи душат меня. Не катайся на велосипеде — ты попадешь под трамвай, не ходи по лесу— тебя убьют разбойники, не брейся в парикмахерской — ты заразишься, и так во всем. Все это делает жизнь невыносимой. Мне запрещают заниматься философией, т. к. слишком рано. А я желаю знать больше, чем другие. Бесконечные нравоучения о морали выводят меня из себя. Я становлюсь угрюмым, отвечаю резко. (Вообще в последнее время я стал мало смеяться). Начинается пиление и разговоры о том, что я невыносим, суров и что веду себя дома как квартирант. Но я не могу — мелочи угнетают меня. Мне не дают ничего делать самому, а потом упрекают за несамостоятельность. Я стараюсь быть поменьше дома и за это опять упреки. Меня не понимают. И, главное, эти невыносимые рассуждения. Они хороши один раз, но каждый день это чертовски неприятно. Я не восьмилетний ребенок. Кроме того, противны и уверения в том, что я живу лучше всех. Я не спорю — жизнь моя хороша, но к чему попрекать этим. Как только я явлюсь из школы, сейчас же следует надоедливый допрос: кто вызывал? что завтракали? Я ужасно не люблю отвечать на эти вопросы. Я ничего не скрываю, но говорю сам.
Мне ничего не нужно. Для того, чтобы я стал хорошим сыном, нужно немножко оставить меня в покое.
Чрезмерная заботливость так же вредна, как безнадзорность.
6. IX.
Два друга у меня, с которыми делю я
Волнения и страсти жизненной игры.
Совместно радуясь и вместе негодуя,
Справляем юности безумные пиры.
Один из нас отбросил пылкие мечтанья,
Туманной тени грез его не ищет ум.
Опора наша в нем, в его самобладаньи,
В суровой глубине его правдивых дум.
Другой мой лучший друг безумец и мечтатель,
Прелестных глаз и чудных губок обожатель,
Он юность размышленью посвятил.
Ему дороже всяких развлечений
Святые недра увлекательных учений
О всех системах неизведанных светил.
Я третий. Фантазер, гордец честолюбивый,
Неведомый певец непризнанных стихов,
Всегда влюбленный и слезливый,
Для радостных минут отдать себя готов.
Виденья светлых муз одна моя отрада,
Созвучия стихов я рад всегда впивать.
За песни, за мои мне взор любви награда,
За звуки нежных слов готов я обожать.
(…)