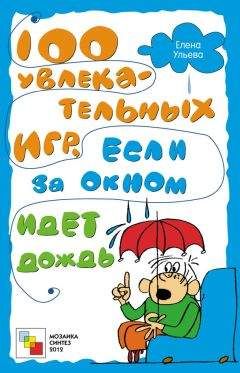Евгений Витковский - Век перевода. Выпуск первый (2005)
АДРИАН РОЛАНД ХОЛСТ (1888–1976)
ВНОВЬ ГРЯДУЩЕЕ ИГО
Сначала страх, и следом — ужас,
всё слышно, истреблен покой.
И шторм, в просторах обнаружась,
грядет: надежды никакой
на то, что гром судьбы не грянет.
Молчат часы, но на краю
небес — уже зарницы ранят
юдоль сию.
Отчаянная и глухая,
ничем не ставшая толпа,
от омерзенья иссыхая, кружит,
презренна и тупа,
по ветхой Западной Европе, —
но только в пропасть, в никуда,
беснуясь в ярости холопьей,
спешит орда.
Себя считая ветвью старшей
и оттого рассвирепев,
бубня глухих военных маршей
пьянящий гибелью напев,
им остается к смерти топать,
в разливе гнева и огня
порабощенных — в мерзость, в копоть
гуртом гоня.
Теперь ничто не под защитой, —
но всё ли сгинет сообща,
затем ли Крест падет подрытый
и рухнет свастика, треща,
затем, чтоб серп вознесся адский,
Европа, над твоей главой —
сей полумесяц азиатский
там, над Москвой?..
12 августа 1939 года.
ЯН ЯКОБ СЛАУЭРХОФ (1898–1936)
АКУРЕЙРИ[1]
В Исландии, где меж скалами фьорда
Стоит Акурейри, я вздремнул;
Я слушал, как монотонно, гордо
Звучит в пустоте водопадный гул.
Приглядываясь к прибрежным каменьям,
Кружится лысый орлан-разведчик,
Лишь овцам и северным оленям
Пастись привычно у здешних речек.
Здесь низвергающаяся вода
Выдалбливала гранит на дне.
Я спал, но думал: кто знает, куда
Корабль увозит меня во сне?
Я спал, как спать вовек не смогу
На койке своей, вдали от земли;
Кто ведает — на каком берегу
После крушенья меня спасли?
Я видел во сне — зачем, почему? —
Как между богами грянул Рагнарек,
Падала глыба за глыбой в дыму,
Будто за легким шариком шарик.
Однако проснулся я, и снова
Увидел поток, летящий с кручи,
Луна средь неба, еще ночного,
Скользила в зарю, как маяк плавучий.
Птицы да скалы — всё неизменно,
Радуга в падающей воде;
Но поднялись травы мне по колено,
И корабля не видать нигде.
Предел и горестям, и заботам
Находят люди в этом краю,
Смыло ревущим водоворотом
Тревогу бессмысленную мою.
В Исландии, где водопад у фьорда
И порт Акурейри, вздремнулось мне,
Светлее и чище — знаю твердо —
Стала душа моя в этом сне.
КОНЕЦ
Без боли вспомнить не могу,
Как погибал с тоски
И знал, что к морю убегу
Навстречу другу иль врагу:
Так грезят моряки.
Я ныне ото всех вдали,
Вокруг — единый океан,
Где ни Елена, ни Тристан
Не породят фатаморган,
И здесь я слышу зов земли…
Здесь мысленно уйти могу,
Давнишним грезам вопреки,
Туда, где берегут пески
Последний, узкий след доски
На берегу.
АЛБЕРТ ХЕЛМАН (1903–1996)
ТОСКА ПО ДОМУ
Как властно ты влечешь меня,
земля родная…
Я не могу прожить и дня,
не вспоминая
о том, как шелестит листва
под солнцем — либо
как беспредельна синева
в Парамарибо…
Там зной вскипает, вопреки
тому, что рано…
Там раскрывает лепестки
цветок банана…
Там в каждой жилке аромат
и в каждой фибре…
Там слышится напев цикад
и песнь колибри…
Там славят девушки рассвет
среди росинок…
Там женщины почтенных лет
спешат на рынок.
Там кашу нынче, как вчера,
толкут старухи;
Там коротают вечера
на ветках духи…
Куда же нынче завели
меня невзгоды,
зачем от родины вдали
бреду сквозь годы?
Здесь всё, чему душа дана,
задушат вскоре,
здесь только голод и война,
здесь смерть и горе.
Когда же завершит покой
земную драму?
В Голландии живу тоской
по Суринаму.
Как манит сердце журавля
вернуться в сроки —
влечет меня моя земля,
мой дом далекий…
ГДЕ?
Все, что навек ушли во тьму,
чей разум вечностью утишен, —
когда, и где, и в чьем дому
их тихий зов бывает слышен?
Коль он предвестье, то к чему?
Ведь, без сомнения, они
живут в стране блаженной ныне,
где весны длятся искони,
где бледен берег звездной сини
и где не наступают дни.
Зачем так часто нам слышна
их жалоба; зачем, как птица,
меж гулких стен скользит она
и так отчаянно стучится
в стекло закрытого окна?
О чьей твердят они беде,
в разливе сумрака над садом
забыв о скорби и суде?
Они томятся где-то рядом
и сетуют. Но где? Но где?
ГОЛОСА
Больной не спит, он издалече
внимает сумрачные речи
вещей: оконной рамы всхлип,
разболтанной кровати скрип,
глухое тиканье часов,
шуршание вдоль плинтусов,
несчастной кошки долгий вой
и стук шагов по мостовой;
пьянчужка, пропустивши чарку,
бредет по направленью к парку,
где каплет желтая листва,
где, слышимый едва-едва,
под банджо голос испитой
вздыхает о земле святой,
перевирая текст псалма —
бред воспаленного ума;
обрывок старого романса
и пляска мертвецов Сен-Санса,
фанфар полночный унисон,
погасших звезд немолчный стон,
о мертвых детях плач без слов,
и трепет влажных вымпелов,
и женский смех, и лай собак,
и колокольца мерный звяк;
старанье крохотной личинки —
она грызет сиденья, спинки,
ко всем событиям глуха;
и резкий окрик петуха,
затем другой, в ответ ему;
зверь, что влачит людей во тьму,
зевает, мрачен и велик…
нет, это тонущего крик!
И совесть, как сверчок, стрекочет,
и червь забвенья душу точит,
жужжит во тьме пчела мечты,
сомнений ползают кроты…
и мышь во мраке что-то ест,
а там, где замаячит крест, —
там чахлой смелости росток
и возбужденной крови ток.
Ледок, на ручейке хрустящий,
и колокол, во тьме звонящий,
процессий шаркающий шаг,
и слово — неизвестно как —
звучит сквозь море тишины;
полет серебряной струны,
будильник, что идти устал, —
и сердца треснувший кристалл.
Да, сердце бедное не дремлет,
и ждет, и постоянно внемлет;
молчит забота, меркнет свет;
вопросы есть, ответов нет!
РОБЕРТ УИЛЬЯМ СЕРВИС (1874–1958)
ВЫСТРЕЛ ДЭНА МАК-ГРЮ
Для крепких парней салун «Маламут» хорош и ночью и днем;
Там есть механическое фоно и славный лабух при нём;
Сорвиголова Мак-Грю шпилял сам за себя в углу,
И как назло ему везло возле Красотки Лу.
За дверью — холод за пятьдесят, но вдруг, опустивши лоб,
В салун ввалился злющий, как пес, береговик-златокоп.
Он был слабей, чем блоха зимой, он выглядел мертвяком,
Однако на всех заказал выпивон — заплатил золотым песком.
Был с тем чужаком никто не знаком, — я точно вам говорю, —
Но пили мы с ним, и последним пил Сорвиголова Мак-Грю.
А гость глазами по залу стрелял, и светилось в них колдовство;
Он смотрел на меня, будто морем огня жизнь окружила его;
Он в бороду врос, он, как хворый пес, чуял погибель свою,
Из бутыли по капле цедил абсент и не глядел на струю.
Я ломал башку: что за тип такой пришел сквозь пургу и мглу, —
Но еще внимательнее за ним следила Красотка Лу.
А взгляд его по салуну скользил, и было понять мудрено,
Что ищет он, — но увидел гость полуживое фоно.
Тапер, что рэгтаймы играл, как раз пошел принять стопаря,
А гость уселся на место его, ни слова не говоря.
В оленьей поддевке, тощий, неловкий, — мне слов-то не подобрать, —
С размаху вцепился в клавиши он — и как он умел играть!
Доводилось ли вам Великую Глушь видеть под полной луной,
Где ледяные горы полны слышимой тишиной;
Где разве что воет полярный волк, где, от смерти на волосок,
Ты ищешь ту проклятую дрянь, что зовут «золотой песок»,
И где небосклоном — красным, зеленым — сполохи мчатся прочь?
Вот это и были ноты его… голод, звезды и ночь.
Тот голод, какого не утолят бобы и жирный бекон.
Голод, который от дома вдали терзает нас испокон.
Пронимает тоскою по теплу и покою, ломает крепких парней;
Голод по родине и семье, но по женщине — всех сильней:
Кто, как не женщина, исцелит, склонясь к твоему челу?
(Как страшно смотрелась под слоем румян красотка по имени Лу!)
Но музыка стала совсем другой, сделалась еле слышна,
Объяснив, что прожита жизнь зазря и отныне ей — грош цена;
Если женщину кто-то увел твою, то, значит, она лгала,
И лучше сдохнуть в своей норе, ибо всё сгорело дотла,
И остался разве что вопль души, точно вам говорю…
«Я, пожалуй, сыграю открытый мизер», — вымолвил Дэн Мак-Грю.
Стихала музыка… Но, как поток, она вскипела к концу,
Бурля через край: «Приди, покарай», — и кровь прилила к лицу.
Пришло желание мстить за всё, — да разве только оно?
Тупая жажда — убить, убить… Тогда замокло фоно.
Он взглянул на нас, — я подобных глаз не видел, не буду врать;
В оленьей поддевке, тощий, неловкий, — мне слов-то не подобрать;
И спокойно так нам сказал чужак: «Я, конечно, вам незнаком,
Но молчать не могу, и я не солгу, клянусь моим кошельком:
Вы толпа слепцов, — в конце-то концов, никого за то не корю,
Только чертов кобель тут засел меж вас… и зовут его Дэн Мак-Грю!»
Я голову спрятал, и свет погас, — бабахнуло будь здоров!
После женского крика зажегся свет, — мы увидели двух жмуров.
Начиненный свинцом, — ну, дело с концом, — Мак-Грю лежал на полу,
А чужак с реки лежал, привалясь к бюсту красотки Лу.
Вот и вся история: на нее глядел я во все глаза.
Допился ли гость до синих чертей? Не скажу ни против, ни за.
У судей, наверное, много ума, — но я видел: в спешке, в пылу,
Целуя, обчистила чужака красотка по имени Лу.
КРЕМАЦИЯ СЭМА МАК-ГИ