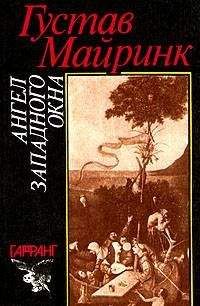Иосиф Бродский - Собрание сочинений
Часть III. Свет
Глава 21 (Романс)Весна, весна, приходят люди
к пустой реке, шумит гранит,
течет река, кого ты судишь,
скажи, кто прав, река твердит,
гудит буксир за Летним садом,
скрипит асфальт, шумит трава,
каналов блеск и плеск канавок,
и все одна, одна строфа:
течет Нева к пустому лету,
кружа мосты с тоски, с тоски,
пройдешь и ты, и без ответа
оставишь ты вопрос реки,
каналов плеск и треск канатов,
и жизнь моя полна, полна,
пустых домов, мостов горбатых,
разжатых рек волна темна,
разжатых рек, квартир и поля,
такси скользят, глаза скользят,
разжатых рук любви и горя,
разжатых рук, путей назад.
Отъезд. Вот памятник неровный
любови, памятник себе,
вокзал, я брошенный любовник,
я твой с колесами в судьбе.
Скажи, куда я выезжаю
из этих плачущихся лет,
мелькнет в окне страна чужая,
махнет деревьями вослед.
Река, и памятник, и крепость -
все видишь сызнова во сне,
и по Морской летит троллейбус
с любовью в запертом окне.
И нет на родину возврата,
одни страдания верны,
за петербургские ограды
обиды как-нибудь верни.
Ты все раздашь на зимних скамьях
по незнакомым городам
и скормишь собранные камни
летейским жадным воробьям.
К намокшим вывескам свисая,
листва легка, листва легка,
над Мойкой серые фасады
клубятся, словно облака,
твой день бежит меж вечных хлопот,
асфальта шорох деловой,
свистя под нос, под шум и грохот,
съезжает осень с Моховой,
взгляни ей вслед и, если хочешь,
скажи себе – печаль бедна,
о, как ты искренне уходишь,
оставив только имена
судьбе, судьбе или картине,
но меж тобой, бредущей вслед,
и между пальцами моими
все больше воздуха и лет,
продли шаги, продли страданья,
пока кружится голова
и обрываются желанья
в душе, как новая листва.
Смеркалось, ветер, утихая,
спешил к Литейному мосту,
из переулков увлекая
окурки, пыльную листву.
Вдали по площади покатой
съезжали два грузовика,
с последним отсветом заката
сбивались в кучу облака.
Гремел трамвай по Миллионной,
и за версту его слыхал
минувший день в густых колоннах,
легко вздыхая, утихал.
Смеркалось. В комнате героя
трещала печь и свет серел,
безмолвно в зеркало сырое
герой все пристальней смотрел.
Проходит жизнь моя, он думал,
темнеет свет, сереет свет,
находишь боль, находишь юмор,
каким ты стал за столько лет.
Сползает свет по длинным стеклам,
с намокших стен к ногам скользя,
о, чьи глаза в тебя так смотрят,
наверно, зеркала глаза.
Он думал – облики случайней
догадок жутких вечеров,
проходит жизнь моя, печальней
не скажешь слов, не скажешь слов.
Теперь ты чувствуешь, как странно
понять, что суть в твоей судьбе
и суть несвязного романа
проходит жизнь сказать тебе.
И ночь сдвигает коридоры
и громко говорит – не верь,
в пустую комнату героя
толчком распахивая дверь.
И возникает на пороге
пришелец, памятник, венец
в конце любви, в конце дороги,
немого времени гонец.
И вновь знакомый переулок
белел обрывками газет,
торцы заученных прогулок,
толкуй о родине, сосед,
толкуй о чем-нибудь недавнем,
любимом в нынешние дни,
тверди о чем-нибудь недальнем,
о смерти издали шепни,
заметь, заметь – одно и то же
мы говорим так много лет,
бежит полуночный прохожий,
спешит за временем вослед,
горит окно, а ты все плачешь
и жмешься к черному стеклу,
кого ты судишь, что ты платишь,
река все плещет на углу.
Пред ним торцы, вода и бревна,
фасадов трещины пред ним,
он ускоряет шаг неровный,
ничем как будто не гоним.
Гоним. Пролетами Пассажа,
свистками, криками ворон,
густыми взмахами фасадов,
толпой фаллических колонн.
Гоним. Ты движешься в испуге
к Неве. Я снова говорю:
я снова вижу в Петербурге
фигуру вечную твою.
Гоним столетьями гонений,
от смерти всюду в двух шагах,
теперь здороваюсь, Евгений,
с тобой на этих берегах.
Река и улица вдохнули
любовь в потертые дома,
в тома дневной литературы
догадок вечного ума.
Гоним, но все-таки не изгнан,
один – сквозь тарахтящий век
вдоль водостоков и карнизов
живой и мертвый человек.
Зимою холоден Елагин.
Полотна узких облаков
висят, как согнутые флаги,
в подковах цинковых мостков,
и мертвым лыжником с обрыва
скользит непрожитая жизнь,
и белый конь бежит к заливу,
вминая снег, кто дышит вниз,
чьи пальцы согнуты в кармане,
тепло, спасибо и за то,
да кто же он, герой романа
в холодном драповом пальто,
он смотрит вниз, какой-то праздник
в его уме жужжит, жужжит,
не мертвый лыжник – мертвый всадник
у ног его теперь лежит.
Он ни при чем, здесь всадник мертвый,
коня белеющего бег
и облака. К подковам мерзлым
все липнет снег, все липнет снег.
Канал туманный Грибоедов,
сквозь двести лет шуршит вода,
немного в мире переехав,
приходишь сызнова сюда.
Со всем когда-нибудь сживешься
в кругу обидчивых харит,
к ограде счастливо прижмешься,
и вечер воду озарит.
Канал ботинок твой окатит
и где-то около Невы
плеснет водой зеленоватой, -
мой Бог, неужто это вы.
А это ты. В канале старом
ты столько лет плывешь уже,
канатов треск и плеск каналов
и улиц свет в твоей душе.
И боль в душе. Вот два столетья.
И улиц свет. И боль в груди.
И ты живешь один на свете,
и только город впереди.
Смотри, смотри, приходит полдень,
чей свет теплей, чей свет серей
всего, что ты опять не понял
на шумной родине своей.
Глава последняя, ты встанешь,
в последний раз в своем лице
сменив усталость, жизнь поставишь,
как будто рифму, на конце.
А век в лицо тебе смеется
и вдаль бежит сквозь треск идей.
Смотри, одно и остается -
цепляться снова за людей,
за их любовь, за свет и низость,
за свет и боль, за долгий крик,
пока из мертвых лет, как вызов,
летят слова – за них, за них.
Я прохожу сквозь вечный город,
дома твердят: река, держись,
шумит листва, в громадном хоре
я говорю тебе: все жизнь.
Июльское интермеццо
(цикл из 9 стихов) [13]
В письме на юг
Г. Гинзбургу-Воскову
Ты уехал на юг, а здесь настали теплые дни,
нагревается мост, ровно плещет вода, пыль витает,
я теперь прохожу в переулке, все в тени, все в тени, все в тени,
и вблизи надо мной твой пустой самолет пролетает.
Господи, я говорю, помоги, помоги ему,
я дурной человек, но ты помоги, я пойду, я пойду прощусь,
Господи, я боюсь за него, нужно помочь, я ладонь подниму,
самолет летит, Господи, помоги, я боюсь.
Так боюсь за себя. Настали теплые дни, так тепло,
пригородные пляжи, желтые паруса посреди залива,
теплый лязг трамваев, воздух в листьях, на той стороне светло,
я прохожу в тени, вижу воду, почти счастливый.
Из распахнутых окон телефоны звенят, и квартиры шумят, и деревья
листвой полны,
солнце светит в дали, солнце светит в горах – над ним,
в этом городе вновь настали теплые дни.
Помоги мне не быть, помоги мне не быть здесь одним.
Пробегай, пробегай, ты любовник, и здесь тебя ждут,
вдоль решеток канала пробегай, задевая рукой гранит,
ровно плещет вода, на балконах цветы цветут,
вот горячей листвой над каналом каштан шумит.
С каждым днем за спиной все плотней закрываются окна оставленных лет,
кто-то смотрит вослед – за стеклом, все глядит холодней,
впереди, кроме улиц твоих, никого, ничего уже нет,
как поверить, что ты проживешь еще столько же дней.
Потому-то все чаще, все чаще ты смотришь назад,
значит, жизнь – только утренний свет, только сердца уверенный стук;
только горы стоят, только горы стоят в твоих белых глазах,
это страшно узнать – никогда не вернешься на Юг.
Прощайте, горы. Что я прожил, что помню, что знаю на час,
никогда не узнаю, но если приходит, приходит пора уходить,
никогда не забуду, и вы не забудьте, что сверху я видел вас,
а теперь здесь другой, я уже не вернусь, постарайтесь простить.
Горы, горы мои. Навсегда белый свет, белый снег, белый свет,
до последнего часа в душе, в ходе мертвых имен,
вечных белых вершин над долинами минувших лет,
словно тысячи рек на свиданьи у вечных времен.
Словно тысячи рек умолкают на миг, умолкают на миг, на мгновение вдруг,
я запомню себя, там, в горах, посреди ослепительных стен,
там, внизу, человек, это я говорю в моих письмах на Юг:
добрый день, моя смерть, добрый день, добрый день, добрый день.
***