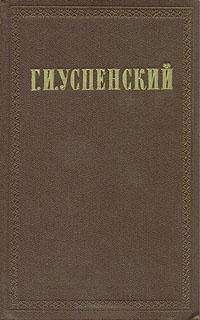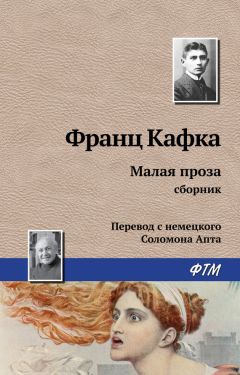Густав Яноух - Из разговоров Густава Яноуха с Францем Кафкой

Обзор книги Густав Яноух - Из разговоров Густава Яноуха с Францем Кафкой
Из разговоров Густава Яноуха с Францем Кафкой
– В ваших стихах еще слишком много шума. Это явление, сопутствующее юности, оно свидетельствует об избытке жизненных сил. Сам по себе этот шум прекрасен, хотя с искусством он ничего общего не имеет. Напротив! Шум мешает выразительности. Но я не критик. Я не умею быстро перевоплотиться, затем вернуться к самому себе и точно соразмерить дистанцию. Повторяю, я не критик. Я лишь осужденный и зритель.
– А кто судья?
– Я, правда, еще и служитель в суде, но судей я не знаю. Должно быть, я совсем мелкий временный служитель в суде. Во мне нет ничего определенного. Определенно только страдание. Когда вы пишете?
– Вечером, ночью. Днем – очень редко. Я не могу писать днем.
– День – великий волшебник.
– Мне мешает свет, фабрика, дома, окна напротив. Но больше всего – свет. Свет отвлекает внимание.
– Возможно, он отвлекает от мрака внутреннего мира. Хорошо, когда свет берет верх над человеком. Если бы не было этих страшных, бессонных ночей, я бы вообще не писал. А так я все время осознаю свое мрачное одиночное заключение.
* * *– Вы описываете поэта этаким удивительным великаном: ноги его на земле, а голова исчезает в облаках. Конечно, это вполне привычный образ с точки зрения мещанских условностей. Это иллюзия сокровенных желаний, ничего общего не имеющих с действительностью. На самом деле поэт гораздо мельче и слабее среднего человека. Потому он гораздо острее и сильнее других ощущает тяжесть земного бытия. Для него самого его пение – лишь вопль. Творчество для художника – страдание, посредством которого он освобождает себя для нового страдания. Он не исполин, а только пестрая птица, запертая в клетке собственного существования.
– И вы тоже?
– Я совершенно несуразная птица. Я – Kavka, галка. У угольщика в Тайнхофе есть такая. Вы видели ее?
– Да, она скачет около лавки.
– Этой моей родственнице живется лучше, чем мне. Правда, у нее подрезаны крылья. Со мной этого делать не надобно, ибо мои крылья отмерли. И теперь для меня не существует ни высоты, ни дали. Смятенно я прыгаю среди людей. Они поглядывают на меня с недоверием. Я ведь опасная птица, воровка, галка. Но это лишь видимость. На самом деле у меня нет интереса к блестящим предметам. Поэтому у меня нет даже блестящих черных перьев. Я сер, как пепел. Галка, страстно желающая скрыться среди камней. Но это так, шутка… Чтобы вы не заметили, как худо мне сегодня.
* * *В связи с получением сигнального экземпляра книжки «В исправительной колонии»:
– Выход в свет любой моей мазни всегда наполняет меня тревогой.
– Почему же вы отдаете это в печать?
– То-то и оно! Макс Брод, Феликс Велч, все мои друзья попросту отбирают у меня написанное и потом ошарашивают меня готовым издательским договором. Я не хочу причинять им неприятности, и так в конечном счете дело доходит до издания вещей, являющихся, собственно говоря, сугубо личными заметками или забавой. Частные доказательства моей человеческой слабости публикуются и даже продаются, потому что мои друзья, с Максом Бродом во главе, хотят из этого во что бы то ни стало делать литературу, а у меня нет сил уничтожить эти свидетельства одиночества… То, что я сейчас сказал, разумеется, преувеличение и мелкий выпад против моих друзей. На самом же деле я уже настолько испорчен и бесстыж, что сам помогаю им издать эти вещи. Чтобы оправдать собственную слабость, я изображаю окружение более сильным, чем оно есть в действительности. Это, конечно, обман. Я ведь юрист. Потому и не могу убежать от зла.
* * *В связи с выходом на чешском языке «Кочегара» в переводе Милены Есенской Г. Яноух сказал:
– В повести так много солнца и хорошего настроения. Здесь так много любви, хотя о ней вообще-то не говорится.
– Это не в повести, а у объекта повествования, у молодости. Она полна солнца и любви. Молодость счастлива, потому что обладает способностью видеть прекрасное. Когда эта способность утрачивается, начинается безнадежная старость, увядание, несчастье.
– Стало быть, старость исключает всякую возможность счастья?
– Нет, счастье исключает старость. Кто сохраняет способность видеть прекрасное, тот не стареет.
– Значит, в «Кочегаре» вы очень молоды и счастливы.
– Лучше всего говорят о далеких вещах. Их видно лучше. «Кочегар» – воспоминание о некоем сне, о чем-то, чего, вероятно, никогда не было. Карл Россман не еврей. Мы же, евреи, рождаемся уже стариками.
* * *На вопрос о том, был ли реальный прообраз у шестнадцатилетнего Карла Россмана:
– Прообразов было много и ни одного. Но это все уже в прошлом.
– Образ молодого Россмана, как и образ кочегара, очень живой.
– Это лишь побочный продукт. Я не рисую людей. Я рассказываю истории. Это картины, только картины.
– В таком случае должны быть прообразы. Основа картины – увиденное.
– Предметы фотографируют, чтобы изгнать их из сознания. Мои истории – своего рода попытка закрыть глаза.
* * *О «Приговоре»:
– Я хотел бы знать, как вы пришли к этому. Посвящение «Для Ф.» – не простая формальность. Вы, конечно же, хотели книгой кому-то что-то сказать.
– …«Приговор» – призрак одной ночи.
– Как так?
– Это призрак.
– Но ведь вы написали это.
– Это лишь свидетельство, предназначенное для защиты от призрака.
* * *О «Превращении»:
– …Замза не является полностью Кафкой. «Превращение» не признание, хотя оно – в известном смысле – и бестактно… Разве тактично и прилично – говорить о клопах, которые завелись в собственной семье?
– Разумеется, в приличном обществе это не принято.
– Видите, насколько я неприличен.
– Я думаю, определения «прилично» или «неприлично» здесь неверны. «Превращение» – страшный сон, страшное видение.
– Сон снимает покров с действительности, с которой не может сравниться никакое видение. В этом ужас жизни – и могущество искусства.
* * *Просмотрев пачку новых книг, которые Г. Яноух собирался читать, Кафка говорит:
– Вы слишком много занимаетесь однодневками. Большинство этих современных книг – лишь мерцающие отражения сегодняшнего дня. Они очень быстро гаснут. Вам следует читать больше старых книг. Классиков. Г?те. Старое обнаруживает свою сокровеннейшую ценность – долговечность. Лишь бы новое – это сама преходящность. Сегодня оно кажется прекрасным, а завтра предстает во всей своей нелепости. Таков путь литературы.
– А поэзия?
– Поэзия преобразует жизнь. Иной раз это еще хуже.
* * *Г. Яноух рассказал Кафке, что его друг, поэт Эрнст Ледерер,[1] пишет свои стихи особыми светло-синими чернилами на какой-то необычной бумаге.
– У каждого мага свой церемониал. Гайдн, например, сочинял музыку только в напудренном, как для торжеств, парике. Писание – своего рода заклинание духов.
* * *После прочтения рукописи сборника рассказов Г. Яноуха:
– Ваши рассказы так трогательно молоды. Они говорят гораздо больше о впечатлениях, которые пробуждают в вас вещи, нежели о самих событиях и предметах. Это лирика. Вы гладите мир, вместо того чтобы хватать его… Это еще не искусство. Это выражение впечатлений и чувств – собственно говоря, робкое ощупывание мира. Глаза еще мечтательно прикрыты. Но со временем это пройдет, а ищущая вслепую рука, возможно, отдернется, словно коснувшись огня. Возможно, вы вскрикнете, начнете бессвязно бормотать или стиснете зубы и широко, очень широко раскроете глаза. Но все это лишь слова. Искусство всегда дело всей личности. Потому оно в основе своей трагично.
* * *Кафка показал анкету с вопросами о литературе, которую проводил, кажется, Отто Пик для воскресного литературного приложения «Праге? прессе». Ткнув пальцем в вопрос «Что Вы можете сказать о своих будущих литературных планах?», он улыбнулся:
– Это глупо. На это нельзя ответить. Разве можно предсказать, как будет биться сердце в ближайшее время? Перо ведь только сейсмографический грифель сердца. Им можно регистрировать землетрясения, но не предсказывать их.
* * *Г. Яноух рассказал Кафке о постановке двух одноактных пьес – Вальтера Хазенклевера и Артура Шницлера[2] в Новом немецком театре. «Постановка была неслаженной, – сказал Г. Яноух. – Экспрессионизм одной пьесы врывался в реализм другой, и наоборот. Наверное, мало репетировали».
– Возможно. Положение немецкого театра в Праге очень трудное. В своей совокупности это целый комплекс финансовых и человеческих обязательств, а необходимой публики нет. Это пирамида без фундамента. Актеры подчинены режиссерам, режиссерами управляет дирекция, которая несет ответственность перед комитетом театрального объединения. Это цепь, лишенная заключительного, связующего все воедино звена. Здесь нет настоящих немцев, а потому нет и надежного, постоянного зрителя. Ведь говорящие по-немецки евреи в ложах и партере не немцы, а приезжающие в Прагу немецкие студенты на балконах и галерке – это лишь форпосты рвущейся вперед власти, враги, а не слушатели. При таких условиях нельзя, разумеется, добиться серьезных творческих результатов. Силы растрачиваются на мелочи. Остаются лишь старания, усилия, которые почти никогда не достигают цели – хорошего спектакля. Потому я и не хожу в театр. Это слишком грустно.