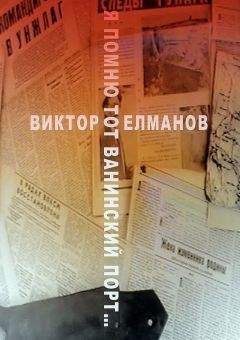Франц Кафка - Письма к Милене

Обзор книги Франц Кафка - Письма к Милене
Франц Кафка
Письма к Милене
Меран-Унтермайс, пансион «Оттобург»
Дорогая госпожа Милена,
я послал Вам несколько строчек из Праги, а потом из Мерана. Ответа не последовало. Впрочем, строчки мои, конечно же, не нуждались в сколько-нибудь спешном ответе, и если Ваше молчание есть всего лишь признак относительного благополучия, каковое, мы знаем, часто выражается в нерасположенности к писанию писем, то я вполне доволен. Но ведь возможно также – и потому я пишу снова, – что в тех строчках своих я Вас чем-то обидел (какая у меня тогда против воли грубая рука, коли это так) или, что было бы много хуже, та минутная передышка, о которой Вы писали, вновь миновала и для Вас вновь наступили тяжелые дни. Относительно первого предположения мне нечего сказать, настолько чуждо мне подобное намерение, а все остальное несколько ближе; относительно же второго не решаюсь гадать, – да и как я могу гадать? – хочу только спросить: отчего бы Вам не уехать хоть ненадолго из Вены? Вы же не бесприютны, как иные. Может быть, прогулка в Богемию придала бы Вам сил? А если по каким-либо причинам, мне неведомым, Вы не хотите в Богемию, то куда-нибудь еще – может быть, неплохо даже и в Меран? Вы бывали в Меране?
Итак, я ожидаю одного из двух. Либо дальнейшего молчания, это означает: «Не беспокойтесь, у меня все в порядке»; либо же хоть нескольких строк.
Сердечно Ваш, Кафка
Я вдруг понял, что, собственно говоря, не могу вспомнить в каких-либо подробностях Вашего лица. Вижу только, как Вы тогда проходили между столиками в кафе, направляясь к выходу, Вашу фигуру, Ваше платье – это все еще вижу.
Дорогая госпожа Милена,
средь венского уныния Вы трудитесь над переводом. Для меня это и трогательно, и стыдно. Вы, наверное, успели уже получить письмо от Вольфа,[1] по крайней мере он уже некоторое время назад писал мне о таком письме. Новеллы «Убийца», объявленной, как говорят, в каком-то каталоге, я не писал, это недоразумение; но коль скоро она якобы лучшая, возможно, так оно и есть.
Судя по вашему последнему и предпоследнему письмам, тревоги и заботы, кажется, целиком и полностью Вас оставили, и я очень Вам этого желаю – и Вам, и Вашему мужу. Мне вспоминается воскресный вечер несколько лет назад, я брел по набережной Франценскэ, цепляясь за стены домов, и столкнулся с Вашим мужем, он шел мне навстречу и выглядел не многим лучше, чем я, – два больших специалиста по головным болям, впрочем, каждый совершенно в своем роде. Не помню уже, то ли мы продолжили путь вместе, то ли так и разминулись, да, пожалуй, разница не столь уж и велика. Но все это миновало и должно остаться в глубинах минувшего. Хорошо ли у Вас дома?
С сердечным приветом,
Ваш Кафка
Меран-Унтермайс, пансион «Оттобург»
Дорогая госпожа Милена,
только что прекратился дождь, ливший почти двое суток днем и ночью; может быть, это и ненадолго, но все же такое событие надо отпраздновать – вот я и пишу Вам. Впрочем, дождь я перенес легко, это оттого, что вокруг меня чужбина, она, правда, невелика, но сердцу от нее отрадно. Вы ведь тоже, если я верно почувствовал (недолгое единственное полунемое свидание явно невозможно исчерпать в памяти), рады были венской чужбине; потом-то, возможно, обстоятельства все омрачили, но Вы тоже радуетесь чужбине как таковой? (Впрочем, это, наверное, дурной знак, и лучше бы ей не радоваться.)
Я живу здесь вполне сносно, более тщательного попечения бренное тело едва ли бы и выдержало, балкон моей комнаты утопает в зелени, обвит, захлестнут цветущими кустами (странная тут растительность – в такую-то погоду, при которой в Праге уже и лужи замерзли бы, перед моим балконом медленно раскрываются чашечки цветов), и при этом он весь открыт солнцу (или, что вернее, нависшему облачному небу, вот уже почти неделю). Ящерицы и птицы, несуразные знакомцы, навещают меня; о, я бы так хотел подарить Вам Меран. Вы недавно написали, что «задыхаетесь», образ тут вполне соответствует смыслу, а эти края, может быть, хоть немного все облегчили бы.
С сердечным приветом,
Ваш Ф.Кафка
Стало быть, легкие. Целый день я ворочал эту мысль в голове и так и этак, ни о чем другом думать не мог. Не то чтобы болезнь особенно меня пугала; наверное (я на это надеюсь, и Ваши намеки это, кажется, подтверждают), она коснулась Вас лишь мягко, но даже и серьезное заболевание легких (более или менее поврежденные легкие сейчас у половины Западной Европы), знакомое мне самому вот уже три года, принесло мне больше блага, чем зла. Года три назад это началось у меня посреди ночи – пошла горлом кровь. Я встал с постели (и это вместо того, чтобы остаться лежать, как я узнал позже из предписаний), случившееся меня взбудоражило, как все новое, но, конечно, немного и перепугало; я подошел к окну, высунулся наружу, потом прошел к умывальнику, походил по комнате, сел на кровать – кровь не переставала. Но при этом я вовсе не был несчастен – ибо через некоторое время я почему-то ясно вдруг осознал, что после трех, да нет, четырех лет бессонницы я впервые – если, конечно, перестанет идти кровь – смогу заснуть. Вскоре все прекратилось (и с тех пор не возвращалось), так что остаток ночи я спал спокойно. Правда, утром пришла горничная (я снимал тогда квартиру в Пале Шёнборн), добрая, чуть ли не самоотверженная, но в высшей степени деловая девушка, и, увидев кровь, сказала: «Pane doktore, s Vami to dlouho nepotrva».[2] Но я чувствовал себя лучше обычного, пошел на работу и лишь после обеда отправился к врачу. Продолжение этой истории тут уже неинтересно. Что я хотел сказать: меня напугала не Ваша болезнь (тем более что я, без конца перебивая сам себя и перебирая свои воспоминания, распознаю за всей Вашей хрупкостью почти по-крестьянски бодрую, крепкую натуру и прихожу к выводу: нет, Вы не больны, это лишь предостережение, а не заболевание легких), – так вот, не это меня напугало, а мысль о том, что должно было предшествовать такому срыву. Тут я для начала исключаю остальное, о чем Вы пишете: ни гроша в кармане, только чай да яблоки, ежедневно с двух до восьми, – это все вещи, которых я не понимаю, и они явно нуждаются в устных разъяснениях. От этого я, стало быть, сейчас отвлекаюсь (но только в письме – ибо забыть такое невозможно) и думаю лишь об объяснении, которое я тогда выстроил для заболевания в моем случае и которое ко многим случаям подходит. Мой мозг тогда просто не мог больше переносить возложенные на него заботы и мучения. Он сказал: «Я сдаюсь; а если кому-то все-таки важно по возможности сохранить целое, пусть облегчит мне ношу, и тогда мы еще какое-то время продержимся». Тут-то и подали голос легкие – им, видно, нечего было терять. Эти переговоры между мозгом и легкими – без моего ведома – были, наверное, ужасны.
И что же Вы теперь намереваетесь делать? Насколько я понимаю, немножко оберегать Вас – это сущий пустяк, это ничего не стоит. А то, что Вас надо немножко оберегать, должно быть видно всякому, кто Вас любит, тут все остальные соображения должны умолкнуть. Стало быть, избавление найдено? Я ведь уже сказал – но нет, не буду шутить, у меня вовсе не весело на душе и не будет весело, пока Вы не напишете мне, удалось ли Вам наладить новый и более здоровый образ жизни. Почему Вы не уедете на некоторое время из Вены – об этом я уже не спрашиваю после Вашего последнего письма, я все понял, но ведь и поблизости от Вены есть чудесные места, где бы Вас могли окружить заботой. Я не пишу сегодня ни о чем другом, ничего более важного у меня нет за душой. Все остальное – на завтра, в том числе и благодарность за журнал,[3] я был растроган и устыжен, опечален и обрадован. Нет, еще только об одном сегодня: если Вы пожертвуете хоть минутой Вашего сна ради перевода, это будет все равно что навек проклясть меня. Ибо когда однажды дело дойдет до суда, не понадобится никакого особого следствия, будет просто установлено: он лишил ее сна. Тем самым я буду осужден – и по праву. Стало быть, я борюсь и за себя, когда прошу Вас больше этого не делать.
Ваш Франц К.
Дорогая госпожа Милена,
сегодня я хочу писать о другом, но – не пишется. Не то чтобы я все принимал уж слишком всерьез; будь это так, я писал бы по-другому, но ведь должна же где-то стоять для Вас качалка в саду, в полузатененном уголке, и чашек десять молока под рукой, чтоб сразу дотянуться. Пускай это даже будет в Вене, ну и что, тем более летом, только б не голодать и не тревожиться. Неужели нет никого, кто бы в этом помог? А что говорит врач?
Когда я вынул журнал из большого конверта, я был почти разочарован. Я хотел услышать что-нибудь о Вас, а не этот уж слишком знакомый голос из старой могилы. Зачем он встрял между нами? А потом я понял, что он же нас и свел. Но, между прочим, для меня непостижимо, как Вы решились взять на себя этот тяжкий труд, и я глубоко тронут тем, с какой верностью Вы его исполнили, словечко за словечком; что такая верность и та великолепная естественная уверенность, с какой Вы ее сохраняете, возможны в чешском языке, я и не предполагал. Неужели немецкий и чешский так близки? Но как бы то ни было, сам рассказ, говоря по чести, отменно плох; мне было бы легче легкого, дорогая госпожа Милена, доказать Вам это строка за строкой, и разве что мое отвращение пересилило бы необходимость доказательства. То, что рассказ Вам понравился, естественно, придает ему ценность, но и немного омрачает для меня картину мира. Довольно об этом. «Сельского врача» Вы получите от Вольфа,[4] я ему написал.