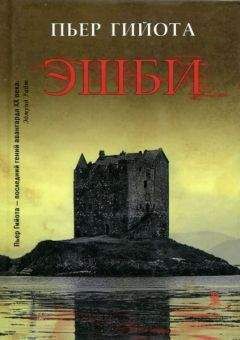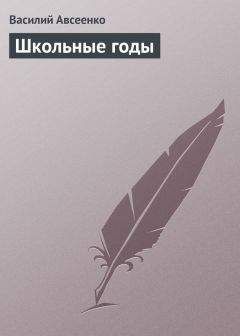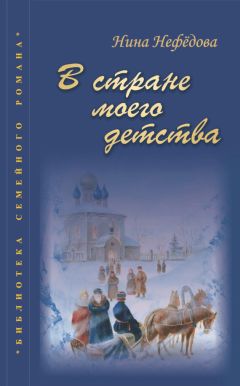Дмитрий Дашков - Поэты 1820–1830-х годов. Том 1
П. П. ШКЛЯРЕВСКИЙ
Павел Петрович Шкляревский родился 15 января 1806 года в г. Лубны Полтавской губернии в семье священника[194]. На одиннадцатом году мальчик был отправлен в Петербург, к дяде, который дал племяннику хорошее воспитание и образование, сначала дома, а потом (в 1823–1827 годах) в петербургской (впоследствии 3-й) гимназии. Здесь Шкляревский начинает писать стихи; хорошо владея несколькими древними и новыми языками, он переводит Салиса, Маттисона, Гете, Шиллера, Клопштока, Байрона, В. Скотта. Его первые Печатные выступления относятся к 1823 году; несколько его стихотворений А. Е. Измайлов поместил в «Благонамеренном» (1823), «Календаре муз» (1826 и 1827) и «Невском альманахе» (1826); одно появилось в «Северных цветах на 1827 год». В гимназии Шкляревский сблизился с будущим историком М. С. Куторгой, издавшим впоследствии посмертный сборник его стихов; в 1827 году оба они поступили в Петербургский университет (Шкляревский на философско-юридическое, Куторга на словесное отделение), а в следующем году в числе других соискателей были направлены в Дерпт, в Профессорский институт. Здесь Шкляревский ревностно возобновляет прерванные занятия; его успехи в изучении филологии и философии высоко оцениваются профессорами; однако уже в 1829 году он заболевает и 5 июля 1830 года умирает от туберкулеза легких.
До нас дошло около трех десятков стихотворений Шкляревского, главным образом переводных; в стихах этих уже успели определиться некоторые особенности своеобразной и оригинальной поэтической манеры. Шкляревский не следует эпигонам элегической поэзии 1820-х годов, — он тяготеет к философской символике и усложненной и несколько абстрактной образности. Современники не без основания замечали в его стихах мистический оттенок, в частности идущую от немецкой поэзии и Жуковского идею двоемирия («Детство»). Характерны для него и эсхатологические мотивы, которые получат затем развитие в русской поэзии 1830-х годов. Представляют интерес и архаизаторскис тенденции Шкляревского, несомненно идущие от увлечения этимологией: намеренное и постоянное обращение к славянской лексике — у него не только следование традиции «высокой поэзии», но и попытка отыскать новые и необычные экспрессивные средства путем обнажения этимологических связей слова и разрушения его привычной ассоциативной сферы; отсюда его смелые и непривычные неологизмы, несколько напоминающие словотворчество Языкова («Пляска», 1826; «К другу», 1827, и др.).
306. ФИАЛКА
Где гибкий орешник сплетается с ивой,
Фиалка под сенью ветвей
Цветет, помрачая красою стыдливой
Цветы и садов и полей.
Как нежно листочков лазурных блистанье
Под каплей жемчужной росы;
Но видел я очи: нежней их сиянье
Сквозь чистую перлу слезы!
Едва загорелось дневное светило —
И высохла в листьях роса, —
Не долей блестела в очах моей милой
Разлуки печальной слеза.
307. ПЕВЕЦ
Из Гете
«Что слышу, на мосту звучит?
Чьи клики пред вратами?
Да своды замка огласит
Та песня перед нами!» —
Так царь воскликнул — паж летит;
Примчался паж — царь говорит:
«Впустить в чертоги старца?»
«Приветствую тебя, собор
Героев и прелестных!
Что зрю? Се звезд несчетный хор!
Се вождь светил небесных!
Се красоты и славы храм!..
Смежитесь, очи; здесь не вам,
Дивяся, восхищаться».
Певец склонил на арфу взгляд;
Коснулся струн — бряцают.
Отвагой рыцари кипят,
Ланиты дев пылают.
Умолк. Царь услажден игрой —
И цепью повелел златой
Украсить выю старца.
«Не мне дари ты цепь сию!
Цепь — рыцарям могучим:
Их копья не страшат в бою,
Треща, как лес дремучий!
Цепь канцлеру златую дай:
Под бременем забот — пускай
Еще златое носит.
Подобно птице я пою,
Что на ветвях витает;
И песнь моя — за песнь мою
Богато награждает.
Просить дерзну ли об одном?
Вели кипящую вином
Поднесть златую чашу».
Он взял — и осушилось дно.
«О, сладостный напиток!
О, благо дому, где вино —
Даров небес избыток!
В день счастья вспомните певца
И столь же пламенно Творца,
Как вас певец, прославьте».
308. ПЛЯСКА
Зри, как быстро четы волною игривой кружатся,
Чуть досязая земли резво-крылатой стопой!
Тени ли зрю я воздушные, свергшие тела оковы?
Эльфы ль в сияньи луны светлою цепью плывут?
Как, зефиром колеблемый, дым струится летучий,
Словно в сребристых зыбях легкий колышется челн,
Скачет, топочет стопа под сладостный лад переливов;
Рокот, бряцание струн живость вливают в тела.
Вот, как будто стремясь расторгнуть цепь хоровода,
Там в стеснившийся ряд мчится отважно чета.
Быстро пред ней расступается ход, исчезая за нею;
Словно волшебным жезлом вдруг заграждается путь.
Мигом от взоров она потерялась; в смятении диком
Гибнет пленительный строй, двигаясь, рушится мир.
Нет, там ликуя несется она; развивается узел;
Лишь в измененной красе вновь учреждается чин.
Рушася вечно, зиждется вечно, вращаясь, творенье;
Тайный закон естества правит игрой перемен.
Но отчего же, вещай, непрестанно зыблются лики
И в движеньи существ царствует вечный покой?
Всяк — владыка, свободен, лишь сердца внушенью подвластен
И скоротечно спешит общей, известной стезей?
Хочешь ли знать? То устав Гармонии — мощной богини:
Дружною пляской она буйный смиряет скачок;
Как Немезида, златой сладкозвучья уздой укрощает
Дикую радость души, пылкий, кипящий восторг.
Или вотще для тебя рокочет музыка вселенной?
Иль не чарует тебя стройного пенья поток?
Ни восхитительный лад, согласие чудное тварей,
Ни круговой хоровод, плавно в пространствах небес
Светлые солнцы вратящий на поприщах, смело извитых?
Меры, хранимой в игре, в действиях ты не блюдешь.
309. К ДРУГУ
(Во время грозы)
Пусть с ужасом бледным порок боязливый
В ущелия темных вертепов летит
И мщенья трепещет судьбы справедливой,
Что в пламенных тучах по небу парит.
С высот осененная мощной рукою.
То бурю кротящей, то вержущей гром.
Стоит, как в сиянии дня, под грозою,
Осклабяся, Доблесть с подъятым челом.
В перунах, секущих померкшие своды,
В борющихся вихрях, в стенаньи дубров
Ей слышатся те же глаголы природы,
Как в шорохе зыблющих злак ветерков.
Изрыто пременами поприще света;
Несчетно виется на оном путей;
Но вечна одна провидения мета:
Виются стези — и сливаются в ней.
Всеобщее благо равно пламенеет
В светилах, над синим эфиром горит,
Как в розе нагбенной росою алеет
Иль в нежных малиновки трелях звучит.
Вовек да не тмит, о мой друг незабвенный,
Души твоей светлой мечтательный страх:
Эгидой ума от тебя отраженный,
Пускай он гнездится в растленных сердцах.
Да нежно хранит тебя горняя сила
И дни твои в радужном блеске текут;
Да ангелы окрест лазурные крила,
Как сень, над главою твоей распрострут.
Когда по безбрежным пучинам творенья
Последний прокатится рокот громов,
Расстроит согласные звезд песнопенья
И мертвых воздвигнет под склепом гробов,—
Спокойно да узришь с отрадой священной
Конечную бурю, сквозь вихри огня,
Сквозь пепел и дым, по обломкам вселенной,
Ведущую в свет невечернего дня!
310. ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ
Не голубки воркование
Разливается по рощице:
Ярославны голос стелется
По стенам Путивля древнего.
«Где ты, Игорь — радость, счастие
Ярославны одинокия,
Как в долине ландыш вянущий?
Прилети веселой птичкою
На поля цветущей родимы,
Прилети в мои объятия,
Осуши с лица печального
Поцелуем слезы горькие…
Ах! когда б была я горлицей —
Полетела б к другу-голубю
Вдоль Дуная серебристого;
Прилетела б в поле ровное —
Там крылом любви невинныя
У шатра в лугу муравчатом
Обняла бы князя милого!
Отерла бы раны горькие
Рукавом бобровым с ласкою!..
Ветер, ветер! Что с насилием
Веешь крыльями холодными?
Ах! зачем стрелу пернатую
Не отвеял ты от Игоря?..
Ах! зачем мое веселие
Ты развеял резво по лугу
Вместе с листьями поблекшими?
Мало ль гор крутых — играть тебе
С облаками серебристыми;
Корабли лелея по морю,
Веять в парусы игривые?..
Солнце светлое, прекрасное!
Всем ты мило, всем прелестно ты,
Всем сердцам блестишь ты радостью
На лазури неба чистого!
Ах! зачем лучи каленые
Пролило на милых воинов?..
Лук засох унывших ратников,
Притупились стрелы острые,
Щит и шлем покрыты пылию!..
Светлый Днепр! река широкая!
Ты пробил сквозь горы каменны
Путь в пределы Половецкие.
Ты лелеял Святославовы
Ладии — на белых парусах,
Белой, лебединой стаею
Рассекавшие поверхность вод!
Ах! лелея на зыбях своих,
Ты неси ко мне любезного —
Дабы с утренней денницею
Или с месяцем серебряным
Мне не лить с тоскою, горестью
Слез на волны моря синего!..
Ах! когда бы знала бедная,
Что сразили друга Игоря,
Не ходила б к морю синему!
Не мочила бы бобрового
Рукава в слезах катящихся!
Не смотрела б в даль пустынную,
Не белеют ли там парусы,
Резвым ветром воздымаемы!
Не лила бы слез потоками
На песок, на камни хладные!»
311. ДРЕВНЯЯ ГРЕЧЕСКАЯ ПЕСНЯ