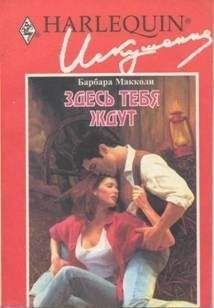Владимир Набоков - Стихотворения
548. «Когда, погаснув, как зарницы…»{*}
Когда, погаснув, как зарницы,
уйдя от дальней красоты,
во мгле, в ночи своей отдельной,
истлею я, истлеешь ты;
когда замрет твой локон легкий,
и тяжкий тлен в моих устах
прервет дыханье, и с тобою
мы будем прах, мы будем прах, —
как прежде, жадные, живые,
не пресыщенные, — о нет! —
блестя и рея, мы вернемся
к местам, где жили много лет.
В луче мы пылью закружимся,
былых не ведая оков,
и над дорогами помчимся
по порученьям ветерков.
И станет каждая пылинка,
блестя и рея тут и там,
скитаться, как паломник тайный,
по упоительным путям.
Не отдохнем, пока не встретит,
за непостижною чертой,
один мой странствующий атом
пылинку, бывшую тобой.
Тогда, тогда, в саду спокойном,
в вечерних ласковых лучах,
и сладостный, и странный трепет
найдут влюбленные в цветах.
И средь очнувшегося сада
такое счастие, такой
призыв воздушно-лучезарный
они почуют над собой,
что не поймут — роса ли это,
огонь ли, музыка, иль цвет,
иль благовонье, или двое,
летящие из света в свет.
И, с неба нашего блаженства
испепеляющего, крик
заставит вспыхнуть их пустые
и нищие сердца — на миг.
И в расползающемся мраке
они, блеснув, потухнут вновь,
но эти глупые людишки
на миг постигнут всю любовь…
549. «Их сонмы облекли полночный синий свод…»{*}
Их сонмы облекли полночный синий свод,
теснятся, зыблются, волнуются безгласно,
на дальний юг текут; к таящейся, прекрасной
луне за кругом круг серебряный плывет.
Одни, оборотясь, прервав пустынный ход,
движеньем медленным, торжественно-неясно
благословляют мир, хоть знают, что напрасно
моленье, что земли моленье не спасет.
Нет смерти, говорят; все души остаются
среди наследников их счастья, слез и снов…
Я думаю, они по синеве несутся,
печально-пышные, как волны облаков;
и на луну глядят, на гладь морей гудящих,
на землю, на людей, туда-сюда бродящих.
550. «Их душу радости окрасили, печали…»{*}
Их душу радости окрасили, печали
омыли сказочно. Мгновенно их влекли
улыбки легкие. Вся радужность земли
принадлежала им, и годы их смягчали.
Они видали жизнь и музыке вдали
внимали. Знали сон и явь. Любовь встречали
и дружбу гордую. Дивились. И молчали.
Касались щек, цветов, мехов… Они ушли.
Так ветры с водами смеются на просторе,
под небом сладостно-лазоревым, но вскоре
зима заворожит крылатую волну,
плясунью нежную, и развернет морозный
спокойный блеск, немую белизну,
сияющую ширь под небом ночи звездной.
551. «Лишь это вспомните, узнав, что я убит…»{*}
Лишь это вспомните, узнав, что я убит:
стал некий уголок, средь поля на чужбине,
навеки Англией. Подумайте: отныне
та нежная земля нежнейший прах таит.
А был он Англией взлелеян; облик стройный
и чувства тонкие Она дала ему,
дала цветы полей и воздух свой незнойный,
прохладу рек своих, тропинок полутьму.
Душа же, ставшая крупицей чистой света,
частицей Разума Божественного, где-то
отчизной данные излучивает сны:
напевы и цвета, рой мыслей золотистый
и смех, усвоенный от дружбы и весны
под небом Англии, в тиши ее душистой.
552. «Из дремы Вечности туманной…»{*}
Из дремы Вечности туманной,
из пустоты небытия
над глубиною гром исторгся:
тобою призван, вышел я.
Я расшатал преграды Ночи,
законы бездны преступил
и в мир блистательно ворвался
под гул испуганных светил.
Распалось вечное молчанье…
Я пролетел — и Ад зацвел.
Каким же знаком докажу я,
что наконец тебя нашел?
Иные вычеканю звезды,
напевом небо раздроблю…
В тебе я огненной любовью
свое бессмертие люблю.
Ты уязвишь седую мудрость,
и смех твой пламенем плеснет,
Я именем твоим багряным
исполосую небосвод.
И рухнет Рай, и Ад потухнет
в последней ярости своей,
и мгла прервет холодным громом
стремленья мира, сны людей.
И встанет Смерть в пустых пространствах
и, в темноту из темноты
скользя неслышно, убоится
сиянья нашей наготы.
Любви блаженствующей звенья
ты, Вечность верная, замкни!
Одни над мраком мы, над прахом
богов низринутых, — одни…
553. «Троянские поправ развалины, в чертог…»{*}
Троянские поправ развалины, в чертог
Приамов Менелай вломился, чтоб развратной
супруге отомстить и смыть невероятный
давнишний свой позор. Средь крови и тревог
он мчался, в тишь вошел, поднялся на порог,
до скрытой горницы добрался он неслышно,
и вдруг, взмахнув мечом, в приют туманно-пышный
он с грохотом вбежал, весь огненный как бог.
Сидела перед ним, безмолвна и спокойна,
Елена белая. Не помнил он, как стройно
восходит стан ее, как светел чистый лик…
И он почувствовал усталость, и смиренно,
постылый кинув меч, он, рыцарь совершенный,
пред совершенною царицею поник.
Так говорит поэт. И как он воспоет
обратный путь, года супружеского плена?
Расскажет ли он нам, как белая Елена
рожала без конца законных чад и вот
брюзгою сделалась, уродом… Ежедневно
болтливый Менелай брал сотню Трой меж двух
обедов. Старились. И голос у царевны
ужасно резок стал, а царь — ужасно глух.
«И дернуло ж меня, — он думает, — на Трою
идти! Зачем Парис втесался?» Он порою
бранится со своей плаксивою каргой,
и, жалко задрожав, та вспомнит про измену.
Так Менелай пилил визгливую Елену,
а прежний друг ее давно уж спал с другой.
554. «Моими дивными деревьями хранимый…»{*}
Моими дивными деревьями хранимый,
лежал я, и лучи уж гасли надо мной,
и гасли одинокие вершины,
омытые дождем, овеянные мглой.
Лазурь и серебро и зелень в них сквозили;
стал темный лес еще темней;
и птицы замерли, и шелесты застыли,
и кралась тишина по лестнице теней.
И не было ни дуновенья…
И знал я в это вещее мгновенье,
что ночь, и лес, и ты — одно,
я знал, что будет мне дано
в глубоком заколдованном покое
найти сокрытый ключ к тому,
что мучило меня, дразнило: почему
ты — ты, и ночь — отрадна, и лесное
молчанье — часть моей души.
Дыханье затаив, один я ждал в тиши,
и, медленно, все три мои святыни —
три образа единой красоты —
уже сливались: сумрак синий,
и лес, и ты.
Но вдруг —
всё дрогнуло, и грохот был вокруг,
шумливый шаг шута в неискренней тревоге,
и треск, и смех, слепые чьи-то ноги,
и платья сверестящий звук,
и голос, оскорбляющий молчанье.
Ключа я не нашел, не стало волшебства,
и ясно зазвучал твой голос, восклицанья,
тупые, пошлые, веселые слова.
Пришла и близ меня заквакала ты внятно…
Сказала ты: здесь тихо и приятно.
Сказала ты: отсюда вид неплох.
А дни уже короче, ты сказала.
Сказала ты: закат — прелестен.
Видит Бог,
хотел бы я, хотел, чтоб ты в гробу лежала!
555. «Усталый, поздно возвратился…»{*}
Усталый, поздно возвратился
я в сумрак комнатки моей,
к уюту бархатного кресла,
к рубинам тлеющих углей.
Вошел тихонько я и… замер:
был женский облик предо мной:
щеки и шеи светлый очерк,
прически очерк теневой,
да, в кресле кто-то незнакомый,
вон там, сидел ко мне спиной.
И волосы ее и шею
я напряженно наблюдал;
на миг застыл, потом рванулся —
и никого не увидал.
Игра пустая, световая
лишь окудесила меня —
теней узоры да подушка
на этом кресле у огня.
О вы, счастливые, земные,
скажите, мог ли я уснуть?
Следил я, как луна во мраке
свершала крадучись свой путь —
по стенке, в зеркале, на чашке…
Я в эту ночь не мог уснуть.
556. «Было поздно, было скучно…»{*}