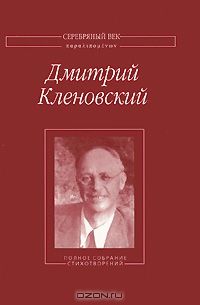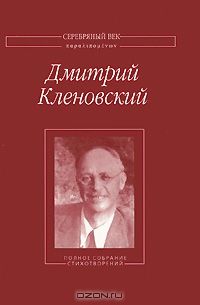Александр Алейник - Другое небо
посвящается М.
Усеченье строки, потому что не хватит дыханья дочитать, досчитать до конца
в чистом поле шаги. Усыханье распева идущего слева стихами, колыханием трав:
— Мальчишки, что взять c них, везло им — не знали свинца! Вот и сбились с ноги.
Птиц разве помнят названья? Днём и ночью бродили в тумане… Позовите того
стервеца! В самом деле, деревья деревьями звались. Гербарий был беден и бабочка
бабочкой млела. Но они отзывались, когда их нe звали, нагретою медью, юнцы, и
дрались неумело, не то что отцы! Это пластик, эпоха, монтаж, гербициды, отбросы,
эрзацы; это власть, немота до последнего вздоха, мандраж, комсомолки-берёзы,
либидо, чем тут красоваться? Какой тут кураж? Bот лежат друг на друге, погибши
за други, чужие, своя. На чужой стороне в красных вишнях тела их, запутаны руки,
и лежит колея, по которой тащились они, вся забита их плотью, никто их не спас,
рук щепоти и ртов их обводья, говоривших за нас.
Разбудите-ка мне вон того и того мертвеца
* * *
А. Межирову
В провинциальных городах России,
на переживших «ленинов» вокзалах,
ещё стоят фанерные диваны
с крутыми вензелями М.П.С.
Трамваи, как аквариумы света,
несут покорных жизни пассажиров,
набоковскими поводя сачками,
в которые влетают фонари.
На привокзальных площадях деревья
стоят поруганной толпой в воронах,
а жизнь кипит: пельмени в ресторанах
от ужаса зажмуривают веки.
На улицах китайщиной торгуют,
многажды книг, как встарь «Политиздата»,
хихикая листают малолетки
картинки дивные про органы любви.
Так и выходит из кулис свобода
и гипсовые рушит изваянья,
и топчет обесцененные деньги,
и приобщает отроков страстям.
В Перми, Саратове, Новосибирске
штудируют язык языковеды,
«шнурки в стакане»*, «ваучеры», «лизы»
по алфавиту строят в словари,
и если «в родине»** на той же ниве
ты продолжаешь поприще своё —
переведи меня на речь эпохи
чудесно оголённых постаментов.
* родители дома;
** в нашей стране (сленг)
памяти дня
Уходящее солнце касается бережно мира,
всё потрогав руками, сгустив на прощание зелень, —
мальчик знает холмы, насекомых, шуршанье копирок
или птиц над печатной машинкой, утопленной в землю.
Крыши зебрами вышли из поля к воде однобокой.
Бьются в воздухе белом короткие красные флаги
и колеблется небо, покрашенной в синее лодкой,
подбирая бортами чернильную леску с бумаги.
Начинается мир как событье, как звоны трамваев
под холмами с кремлём, как скрещённые приводы улиц,
тарахтящих к реке — через реку — к мельчанью окраин
там они к ненадёжной полоске приткнулись.
Под столбы атмосферы к зубцам, округлённым закатом,
поднимается слева Ока по гудкам к городкам, к перекатам,
блюдцами окон, расквашенной в кашу малиной —
длинная вода над лиловой глиной —
вязкое тело, тянущееся неловко,
на голени присела — далеко — божья коровка
в чёрных крапинах, перерезанная, исчезает
тикающими к темноте заныканными часами.
В городе будут случаться странные вещи:
буквы стучать по вывескам, тополя обнаружат плечи
женщин, опутают лица их неотвязным пухом
и наклеют улыбки девочек на синие рты старухам.
Всё переменится в сумерки: в воробьиной истерике
будут качаться парочки в шевелящемся скверике,
будут плавать пьяницы на пробковом шевиоте
дрейфующих пиджаков; головами на эшафоте
будут таращиться с плакатов отрубленные лица,
галки застрянут в карканье, как больные в больницах,
а нездоровые звёзды в их гнёздах — в шараханьи страшных веток,
обводимых луной — её злым рентгеновским светом.
Да, всё изменится, даже группа электрической крови
у бордовых трамваев, заходящихся в рёве
на поворотах рельс, на внезапных изгибах
переулков, поднимающих золотых рыбок
в покачивающихся аквариумах из янтарных стёкол.
Никак не стащит перчатку сталинский сокол,
озирающий мглу с высокого постамента,
под которым утюжится пароходами лента
Волги, кажущейся тлеющим кое-где провалом,
выползающая из его руки, и чернеющая разбомблённым вокзалом.
День, перешедший в ночь, нож обломал в воде.
Скрывается от мусоров и граждан.
Везде его фотографии: крупно набрано «ДЕНЬ»:
год рожденья… приметы… «РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗА КРАЖИ».
Граждане пьют чай. Юноши угощают своих
и не своих девушек мороженным и шампанским.
Убежавший от стражи день притих
на тихой малине в тёмном районе шпанском.
Ты, бритая голова. Ты, оловянный взгляд.
Отсидись до утра. Не рыпайся. Будь спокоен.
Улицы без тебя ночь напролёт блестят.
Полнолунье качается в арках пустых колоколен.
* * *
Как жизнь похожа на себя —
ну что присочинить, прибавить
к ней? Удивляясь, теребя
подол её, ещё лукавить
мальчишкой, сладкого прося,
пока ещё не оскудела,
пока на сгибах и осях
к ней приспособленное тело
скрипит, и песенку свою
из воздуха, воды и хлеба
вытягивает и — на Юг
идёт окном вагонным небо,
плывёт само сквозь пыль огней
и кроны рощ, поля и крыши,
и тёплые ладони дней
на стыках рельс меня колышат.
Я в Харькове сошёл купить
мороженное на вокзале
и просто на землю ступить,
чтобы её мне не качали.
Там тоже жизнь и запах свой:
арбузов, тёплых дынь и яблок,
и у меня над головой
луна, как проводница, зябла.
Я жил на влажных простынях,
когда придвинулся Воронеж,
стояла ёжиком стерня
и пахла степь сухой ладонью,
и небо млело под щекой
под утро, грея неуклонно,
дымящийся в степи Джанкой
в звериных дерганьях вагона.
Хотелось жить, как не хотеть
курить, высовывая локоть
к звезде высокой и лететь
над этой далью белобокой,
огни в тумане размечать —
там, чай, играют на гармошке
и дышит девка у плеча,
да влажные заводит плошки
целуясь или хохоча…
* * *
Затеряться в толпе незаметных людей с восторгом,
затереться в трамвайную прозу c cорванным горлом,
передавать нагретый пятак на билетик,
занимать сидячее место в транспортном кордебалете.
Причёсывать волосы по утрам, исчезая из зеркала, узкой расчёской,
не останавливаться, проходя, у газетных киосков,
забывая ночь на свету — обрывки ночного бреда,
вечно дымя на ходу недокуренной сигаретой.
Видеть как лёд плывёт по гладкой воде в апреле,
подталкиваемый вперёд солнечною форелью,
греметь опавшей листвой, просыпающимся бульваром,
ощущая над головой небо, ставшее старым.
Видеть в чёрных деревьях графику собственных мыслей,
замечать одиноких женщин, усвоивших несколько истин,
до которых других доводит отчаянный возраст,
увидев N, — удержать естественный возглас.
Ходить по правой стороне одной и той же улицы годами,
встречать одни и те же лица над торопливыми шагами,
каждое утро за тысячей спин вбегать на уползающий эскалатор,
мимо блузок и шуб, вот ещё один падает в мраморную прохладу,
мимо шоколадных панелей и теплящихся лампионов,
мимо таких же, как ты — призёров и чемпионов,
под баритон или альт ошеломительных правил,
мимо миллионов лиц — миллионов стёршихся фотографий.
Ждать поезда — нарастающий звук — вас уносит поезд,
ждать вечера, ночи, утра, лета, не беспокоясь,
что они никогда не придут — для тебя исчезнет
весь этот мир возносящих и опускающих лестниц.
Новые двери, вещи, лица, глаза, объятья,
новые президенты, слова, войны, платья,
новые зимы, песенки, дети, тарифы,
новые календари, грачи, ёлки, цифры…
Я устаю от своего лица, от своей походки,
я отличаю в толпе, кто мои одногодки,
я видел девочку из нашего класса, теперь — певица
в шикарном ресторане, куда вечером не пробиться.
Как блестят у неё глаза над рукой с микрофоном,
она поёт не одна — на другой — такое же платье с серебристым шиффоном,
очень белые плечи у обеих певиц, очень стройные спинки,
но не надо приближаться — не увеличивать лиц — пусть не меркнут картинки.
Пусть мигают цветные лампочки и высокий голос
заполняет притихшую залу от потолка до пола,
пусть его вожделенно слышат опоздавшие «гости», давая швейцару
сколько положено — с одного, сколько положено — с пары.
По часам, по кругу вечно бегущие стрелки,
вечно застывшие, вечно замершие на делениях мелких,
маленькие шажки, маленькие остановки жизни
в бесконечно привязанной к тебе отчизне.
День и ночь чередуются, как карты в пасьянсе,
меняются местами, как пара на киносеансе,
чтобы увидеть вдвоём звучащее как далёкая арфа
за головами передних рядов завораживающее ЗАВТРА.
сонеты