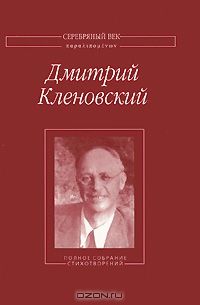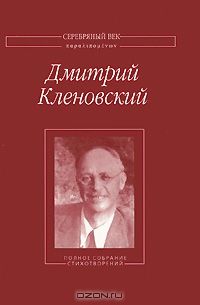Александр Алейник - Другое небо
экзерсис
IВ полосе отчуждения
известные учреждения,
служа миру,
по радио строить лиру
и подводить часы,
близ цветущей лозы
умолкающей героини,
вклеивающей в усы
упоительное лобзанье на семейной перине.
Думаешь: все рифмы ещё впереди,
суринамская пипа*
достойна всхлипа,
пока одиночество отстукивает время в груди.
В этой белой стране
рельеф лежащего тела,
изгибающегося на простыне,
очерчивает пределы,
за которые не хочется выходить —
это гладкая поверхность кожи —
я забываю, что я — один,
мы так беззащитны, так похожи.
Смешиваем вдох-выдох-вдох —
когда становимся сплошным касаньем —
в этой белой стране правит бог,
исполняющий прихоти и желанья.
Уплываем, держась друг за друга.
Чёрное небо кажется лугом.
Позвонками касаемся звёзд и планет —
там не понимают слова «нет».
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
Я плохой переводчик. Я забыл языки.
Ты живёшь в сплетеньи сосудов руки.
Ты по венам течёшь, ты толкаешь кровь
(я не знаю рифму к этому слову) —
может быть — это твои покровы,
может быть — это безвыходный лабиринт).
Мы вошли вдвоём — мы сгорим,
как сгорает от собственной краски роза —
остаётся в пространстве застывшая поза,
лежат на скатерти свёрнутые лепестки,
как ослеплённые лампочкой мотыльки.
Торопись, торопись,
поднимай ресницы,
вспоминай жизнь —
зеркала и лица,
пожиратель губной помады…
…проводя по ней взглядом,
хочется сказать «не шевелись».
Я как колючки, что жаждут в пустыне воды.
На меня наступает песок, построившись в ряды.
Наступает атасное утро после ясной ночи.
По радио поют пионеры — дети рабочих.
Солнце в окне дудит, как горнист.
Смерть всё длиннее. Всё короче жизнь.
Всякая жизнь.
Моя жизнь.
* вид жаб
IIНаташа Шарова целовалась у лифта,
не убирая рук с лифа.
Её никогда, к сожаленью, не узнает страна.
И когда её предадут могиле —
Господом будет посрамлён сатана,
но не задудят по ней заводы и автомобили.
О ней никогда не будет поставлена пьеса,
в которую она выпархивает из леса,
намалёванного на широченном холсте,
прижимая к незапятнанной шейке лесной букетик.
На ней не скоро женится перспективный медик,
конструктивно и пламенно заявляющий о её красоте.
Они не поплывут по сцене в скрипучей лодке.
У него не будет конкурента в пилотке,
отвалившего неизвестно куда,
но явно не возводить над болотами города.
Во втором акте не обнаружится её недальновидная мать,
и когда Наташа будет пластично-кротко стирать
медицинский халат в оцинкованном корыте,
улыбаясь так, чтоб увидел зритель,
как она трогательна и ранима,
даже когда её пилит мамаша неутомимо,
не вышагнет из боковой кулисы отец —
долбануть, понимаешь, кулаком по столу, и положить конец
недостойной сцене в предыдущей картине,
не вспомнит дедушку, подорвавшегося на мине
ещё, понимаешь, в 1915-том году,
и, видимо, отродясь моловшего ерунду,
не снимет кепку с прилизанных седин,
не вынет угретую на груди
(с боковой резьбой!) многоугольную деталь,
за каковую в третьем акте, понимаешь, получит медаль,
а уж по каковому поводу не стащит с гвоздя гитару
и что-нибудь не сбацает с патефонного репертуару.
А Наташа не шепнёт разомлевшему медику «я — твоя».
Папаня, понимаешь, не пересвищет на свадебке соловья.
Его не обнимет друг-лекальщик Пахомыч,
прикипевший сердцем к этому дому.
Он не будет приговаривать за чаем «мы ещё повоюем».
Не обзовёт медика (в сердцах) «ветродуем».
Не засверлит с папаней в полуночном цеху.
Не пожалуется медику на свербенье в боку
«особливо, ежели, скажем, дождь или сухо».
Отчего медик не преклонит красное ухо
к немодному, но выходному его пиджаку.
И никогда в развязке нашей волнительной пьесы
не прогремит и не вдарит заупокойная месса,
при звуках которой, двигая стульями, встанет на сцене народ.
И когда Пахомыча протащат сандалетами вперёд —
не разведёт руками, понимаешь, потрясённый папаня,
не подаст ему накапанной валерьянки в стакане
Наташа Шарова в оттопыренном на животе платье,
а потом, очень стройная, в очень домашнем халате,
не склонится с медиком и папаней в приятном финале
над плаксивой подушкой, которую втроём укачали.
Моя бедная героиня,
цирк сожгли, ускакала четвёрка
лошадей в голубых султанах
и неоновых трубках синих,
из бетона воздвигли орган
по проекту чухны,
свиданья
назначаются там, как прежде,
и с помадой стоят цыгане,
в проходных
те же
дяди торгуют водкой,
и бульвар поруган разрытый.
Ты была на нём самой кроткой
веткой, к телу его привитой.
Моя бедная героиня,
на каких ты теперь подмостках
перед зеркалом губы красишь
и талдычишь свои монологи
о себе, о дочке ли, сыне,
о творящемся безобразьи,
и уже подводишь итоги
красоте, растворимой боем
часовым, от театра кукол,
уносимой снежинок роем
или листьев в кулису, с круга
поворотного в мощной арке
театральной… хлопки и крики
проникают за пышный бархат,
и цветы, в основном — гвоздики.
* * *
Сердце спускающееся этажами —
сна содержанье,
гулкие лестницы и дворы —
всегда пустые, цвета норы,
небо прижатое к крышам и окнам
всей тоской одиноко,
в штриховке решёток повисшие лифты
на кишках некрасивых,
перила в зигзагах коричневой краски —
как сняли повязки,
шахты подъездов с тихим безумием
масляных сумерек,
любви, перепалок, прощаний
небольшие площадки
в геометрии вяловлекущей жизни,
склизкой как слизни,
город с изнанки — двери,
ступени в улиц сплетенья,
куст ржавеющей арматуры
из гипсовой дуры,
лиловые ветви спят на асфальте
смычками Вивальди,
скелетик моста над тухлой водою,
сохнущий стоя,
холмы, к которым шагнуть через воздух
не создан,
но можно скитаться в сонном кессоне,
расставив ладони,
врастая в обломки пространства ночами,
жизнью — в прощанье.
наблюдение воды
… и улица у розовых холмов,
впитавших травами цвета заката
и ржавой жестью маленьких домов,
всё слушающих пение наяды
в колодах обомшелых, там вода
прозрачней, чем вода, и ломозуба,
а если тронуть пальцами — звезда
всплывает синей бабочкой из сруба
и вспархивает в небо без труда.
Шуршание песка и пахнет грубо
застывший сгустками на шпалах жир,
на насыпи цветы с цыганских юбок,
и — вязкая, как под ножом инжир —
стоит Ока вполгоризонта, скупо,
вспотевшим зеркалом скорей скрывая мир,
чем отражая. Свет идёт на убыль
в голубизну глубоких звёздных дыр.
Построенный столетие тому
и брошенный теперь на разрушенье
вокзал, уже не знаю почему,
похож скорее на изображенье
своё, чем на ненужный нашим дням
приют толпы, сновавшей беспрестанно,
и паровозов тупиковый храм,
удобно совместивший ресторана
колонны с помещением «для дамъ»,
несущим пиктограммы хулигана.
Весь этот некогда живой цветник
густой цивилизации транзитной,
что к услажденью публики возник,
поник, увы, главой своей в обидной
оставленности, так страницы книг
желтеют и ломаются от пальцев
листающих их хрупкие поля,
неважны напечатанные в них
слова, упрёки, выводы страдальцев,
их еженощно пожирает тля
забвения, и бедные предметы
не могут избежать ужасной меты.
Так и вокзал, он в несколько слоёв
обит доской рассохшейся, фанерой,
лишь кирпичами выложенных слов,
как постулатами забытой веры,
он утверждал углы своих основ.
Я видел город справа от себя:
все эти чёрточки, коробочки, ворсинки,
все знаки препинания его
реестра, неподвижные росинки
сверкали окон, дыбились рябя,
и зыбились один на одного
районы: тут — Канавино, там — Шпальный,
Гордеевка, а там — другой вокзал,
чуть высунутый изо всей картинки,
счастливее, чем этот мой печальный,
и плыли облака, из зала в зал
идут так экскурсанты — в некий дальний
и лучший изо всех. Я не скучал,
разглядывая мелкие детали,
мазки, перемежающий их шрифт,
указки труб торчали и считали
дома на улицах. Теснящийся наплыв
лишённой куполов архитектуры —
промоины, овраги, перебив
мелодий каменных синкопами, стокатто,
густописанием разросшейся листвы
зелёных опухолей «имени Марата»
и гуще — «Первомая», где ни львы,
ни нимфы мраморные прыгают в аллеях,
а монстров гипсовых толпища прёт,
и дальше — город крышами мелея,
дырея, распадается, ползёт
по Волге вверх к полям,
что зеленея и бронзовея
держат небосвод.
Меж мной и дивной этой панорамой,
чуть воду выгнув тянется Ока,
не проливаясь из песчаной рамы,
а Волга, что сутулится слегка,
исходит справа — под мостом пролазит,
и кротко отражает облака,
стремясь к слиянью — поясняю: к счастью.
В тени моста, лиловая слегка,
она похожа на провал опасный
и странно от небес отрешена,
она уводит вглубь воды неясной,
и, кажется, сама отражена
таящейся в ней непроглядной мутью,
в которой булькнув, стенькина княжна
прохладных рыб кормила белой грудью
и ракам верная была жена,
в то время как Степан своей дружине
какой он друг-товарищ доказал,
по каковой возвышенной причине
его народ любил и воспевал
как молодца, но всё же и кручине
показывает в песне путь слеза
по шемаханской пленнице-дивчине.
Как Гамлет говорил: «Слова… слова…»,
а здесь вода, что выбирает ниже
строкою место, чтобы мирно течь,
субстанция подвижная как речь,
текучая, способная как лыжи
скользить,
как атаман касаться плеч
княжны перед картинным душегубством:
её пластичность, глубина искусствам
сродни, и плюс — возможность отразить
волненья наши или самый повод,
красой былины сердце поразить,
прикинуться иной чем прежде, новой,
певца зовущая попеть ли, погрустить,
что впрочем близко…
Сбоку от меня —
высокие холмы правобережья,
впитавшие в преображенье дня
всю летнюю безадресную нежность.
Их холод тайный ручейки хранят,
своим журчаньем подзывает вечность
студёная.
Я шёл по полотну
бездействующей много лет дороги
в посёлок Слуда, две больших сороки
вели позиционную войну
на шпалах…
Я упомянул
ручьи и родники,
я пил оттуда…
…бывало я чуть пальцами коснусь
воды стоящей в тёсаных колодах,
как грудь мне прожигала насквозь грусть
безмерная, таящаяся в водах.
И шевелили травами холмы…
Не удивился б, босховых уродов
увидев в глубине их тьмы,
когда б они внезапно распахнулись.
Какой-то холод адский их питал
и воду пропускал в замшелый улей,
к которому я губы преклонял
и отражался.
Ясные ключи
служили звёздам вехами в ночи.
Стояла там вода сторожевая
и службу неподвижную несла,
изменчивое небо отражая.
Не знавшая ни рыбы, ни весла,
но помнившая лица без числа,
но жизни лиц и шей с собой сливая,
она ночами к Господу росла,
их образ бережно передавая
Ему из этого земли угла,
всех по губам, по лбам припоминая,
кто пил её, она назад ждала,
и так жила, иных из них встречая
какое-то количество времён,
и день за днём по капле забывая
покинувших её.
Не трогал сон
её чела студёного без складок,
при свете дня зеркально гладок
был вид метафизический её.
Она облюбовав себе жильё,
Бог знает сколько лет не покидала
сих мест, но знала, что цветёт быльё,
поскольку рядом рассыхались шпалы,
и вздохи паровоза не трясли
её незамерзавшего жилища,
а рядом одуванчики росли,
повсюду пух раскидывая птичий,
ей тоже свои семечки несли
на всякий случай, или — из приличья.
Я помнил её чёрное лицо,
увиденное мной однажды ночью.
Я, подарил бы ей тогда кольцо,
когда б был окольцован. Впрочем,
на что ей эти знаки несвобод,
когда в неё годами небосвод
светящиеся сбрасывает кольца?
Я помню к ней тянулись богомольцы,
стояли на коленях у колод
и что-нибудь, наверное, давали
за то, что уносили по домам.
Старушки бедные в платках. Едва ли,
что ценное имелось там
для справедливого у них обмена
на чудо исцеленья; где безмена
на этот счёт отмерена черта?
По праздникам церковным череда
старушек с женщинами помоложе
к ней подходила и молила: «Боже,
спаси-помилуй-пощади рабу
Твоя…» и прочее, не помню дальше,
но вижу эту кроткую гурьбу
вокруг неё, и лица даже,
давно уже сокрытые в гробу.
Когда я руку в воду опускал,
зеркальную на миг сломав поверхность,
через своё лицо я попадал
(вообще она ему хранила верность,
как матушка всех мыслимых зеркал)
в такое место, где иной среды
вступали в силу странные законы.
Я не о преломленьи — о воды
уступчивости. О границе зоны
принадлежавшей мне и облакам,
разбуженным и всплывшим пузырькам,
о зрении её бессоном,
о наблюденьи света и вещей,
о дверцах наших собственных теней
о входах в мир сокрытый и бездонный.
Я помню, как смотрел в лицо воды,
как будто зазывающей: «Сюды…
сюды поди, соколик мой бедовый…»
Ей было холодно, и сломанной рукой
я ощущал немыслимый покой
её буддийской, медленной основы.
И пальцы, как живые якоря,
держали то, чем полнятся моря,
внутри её кривого зазеркалья
они теряли в скорости, и вес
их забывал, что где-то царь отвес
и медленно, непрямо вверх всплывали.
Я видел, что она, почти как кровь,
густа и стекловидна, вскинет бровь
она сближенью этому, и краску
цветною крупкой осаждает вниз
на дно уставшее — осенний холод лист
так в ледяную погружает ласку…
в надлежащее время