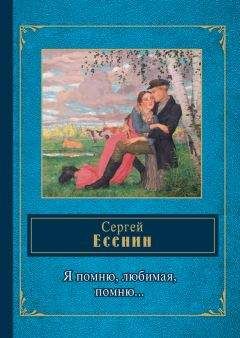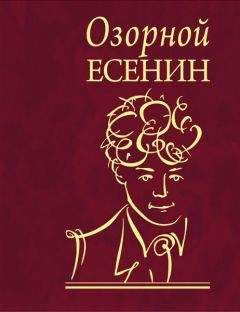Сергей Соколкин - Соколиная книга
* * *
Бесноватых мутантов немая орава
возжигает во тьме
матерь-землю мою.
И в нее превращаясь,
я выстрадал право
за нее – за родную погибнуть в бою.
Пыль веков на чело
черной птицей садится,
обагрив русской славой
земное былье.
В каждой пяди ее
кровь златая святится,
и могила Христа в каждой пяди ее.
И, горстьми зачерпнув
этой вечной основы,
я встречаю врага
на крылатом коне.
Ну а лечь в эту землю
и слиться с ней снова,
прямо скажем,
не самый бесславный конец.
* * *
Памяти погибшего священника
Обелиск на растоптанной
братской могиле
все коптит жженым мясом
в бесстрастное небо,
хоть торжественный прах,
торопясь, выносили
на просевшие баржи
и сплавили в небыль.
Только помнят подвалы,
как кровушку нашу
сапогами месили, мочой поливали.
Как, пустивши на круг
поминальную чашу,
в нее рыла свиные себя окунали.
Как восставших из тьмы
добивали ногами,
повылазили бесы
под траурным сводом.
Но, златые хоругви
спустив пред врагами,
Русь Святая на них
не пошла крестным ходом.
Лишь в священном дыму
оскорбленною тенью
черный ангел
сверкнул и пропал в одночасье.
И груженой баржою
без благословенья
уплывает Россия
на поиски счастья…
Идет война
Идет война. И Бог уже не выдаст,
свинья не съест. И Путин ни при чем…
Из дерева одежды шьем на вырост
и крестимся каленым кирпичом.
Идет война. И в землю мы врастаем,
роднясь с травой и облаком в реке.
Закрой глаза – и в перелетной стае
заговоришь на птичьем языке.
Идет война. Любовь давно в разгаре,
горячая, нездешняя любовь.
Гуляй, душа, – в ударе так в ударе,
пока с небес на землю льется кровь.
Идет война. И набухают вены.
И мальчики рождаются в траве.
Теперь мы все немножечко чечены,
кто с пулей, кто с Аллахом в голове.
Чеченская коррида
Махмуду Эсамбаеву
Над Грозным тягостная вьюга.
В шаманском танце хохоча,
смерть втягивает в пляску друга,
махнув рукой на палача.
И словно год назад в столице —
грохочет танком, целя в лоб.
И черной птицею садится
на невостребованный гроб…
Для зрелища, стуча копытом,
встает коррида в полный рост.
По следу крови за убитым
другой ногами бьет в помост.
Стан лебединый гнет недобро,
дрожит, как струнка,
чтобы вмиг
рукой, как полной яда коброй,
врагу всадить точеный клык.
К хлысту чеченской длинной воли,
мечась на лезвии меча,
его душа, дрожа от боли,
льнет,
кастаньетами звуча.
Щелчок. И вывалились бесы,
огнем обсыпав каблуки.
В белках кровавых
волчья несыть
разводит желтые круги.
Застыл тореро, хорошея,
в отважной дикой красоте.
И бычья вытянулась шея,
сверкнув рябиной на кусте.
Бой кончен,
выходя из роли,
танцор плащом стирает пот.
А по щекам,
как струйка крови,
слеза горячая течет.
Памяти жертв Буденновска
Истории своей не надобно отныне
нам – русским выродкам,
без воли и судьбы…
Лишь песня на губах —
как мертвый в поле стынет,
и матери кричат
в предчувствии беды.
В Руси отныне ночь —
из человечьих месив.
И смерть метет косой
по полю спелой лжи.
Встает слепой солдат,
погибший в Гудермесе,
и, руки вытянув,
идет по нашу жизнь.
О Русь моя,
очнись, ответь, кому в угоду
твой желторотый сын
был послан на убой,
а царственный дурак
убийцам дал свободу,
чтобы наемники смеялись над тобой?!
А ты, поймав в горах,
опять бы их простила,
забыв про боль обид,
предательства оскал…
Над проданной страной
плывет свинячье рыло,
и шастает во тьме обугленный шакал.
И женщины бредут
с глазами водяными
бесчувственной толпой
по колее войны.
В запёкшихся устах
одно застряло имя…
И верить хочется,
что живы их сыны.
И что вот-вот придет
конец бездарной драке,
а вместе с ним конец продажного ворья.
И под раскатистые всхлипы воронья
плоть русскую
не будут жрать собаки.
Пока же на Руси
года кровавой прозы
и мертвую страну насилует бандит…
Расстрелянный солдат,
подставленный под Грозным,
лежит, как Крест Святой,
и в небеса глядит.
* * *
Николаю Ивановичу Тряпкину
Раскачиваясь,
расшатываясь,
приседая,
вынося головой проливной понос,
дорогу у мертвецов узнавая,
к России тянусь я —
воскресший великоросс.
Она ж
средь могил разрытых стонет
и все сползает в омут черных дней
с шершавой
теплой
божеской ладони,
смотря глазами матери моей.
Меня знобит
как пред скончаньем века,
зубовный хруст
с земли крадется ввысь,
мол, на Руси —
все меньше человеков,
все больше, больше
серых русских крыс.
И вижу я,
как в мусорке смердящей
еще живое что-то
что-то ест, жует,
корявой смертью, злобою ледащей
накачивая
выпавший дряблый живот.
И видел я, как девка простая
за доллары отдавалась
и за копейки.
Но из мокрой жопищи вылетая,
песнь любви свистали канарейки.
И снится
войны мне опухшая морда,
что, как сеятель,
в похмельной качке
пригоршнями
разбрасывает по моргам
отработанных русских мальчиков.
Обгрызана земля моя,
изнасилована
маньяками разными,
гадами и безродцами,
что сосут ее кровь.
Но взбесилась она,
черной местью
им под ноги льется…
Я ведь добрым рос,
нежным, с мягкой душою…
Но каждый – варвар
в неурожайный год.
Рот поганого набив землею,
буду держать —
пока хлебом не прорастет.
Шумит океан крови русской.
За нами
наши деды, впереди —
нерожденные дети…
Возвращается мама
с небесными глазами —
по трупам врагов
как Пресветлая Дева.
* * *
Владимиру Бондаренко
Я спокоен,
я абсолютно спокоен.
Только,
как у раздавленной псины,
в глазах стекленеет слюда…
Се – есть
самая наиподлейшая из боен,
где подставлен был русский солдат,
что живьем еще вмерз
в полумертвую тощую почву.
Слово «долг» пузырится
на обгрызанных, нищих губах.
И вкогтившись в имперскую землю,
родную заочно,
он в Россию друзей провожает —
в красных,
как солдатская клятва, гробах.
Он обложен, как волк,
что обязан быть чьей-то добычей…
Наступать не дают…
Значит, кто-то опять
под лопаткой найдет ржавый нож, —
он давно изучил тот
разбойничий славный обычай…
С голодухи блюет по утрам он
от спирта и уполномоченных рож.
И гудит в голове,
что, в такую войнушку играя,
интерес свой имеет
ползучая
кремлевская власть.
А Россиюшка-мать,
голубица…
бабища дрянная —
предала,
поревела немного
и бандитам как есть отдалась…
Я иду по Кремлю,
вижу Русь подтатарскую вживе.
А вокруг пустота.
И похмельный туман впереди…
Когда мордою в грязь
опускают свои и чужие,
то своих ненавидишь
до смертного хрипа в груди.
На колени, холопы!
Молитесь, покуда не в силах
вашу мерзкую плоть
на убой гнать – заместо коров.
Ведь какая же дрянь,
разлагаясь, течет в ваших жилах,
если к нефти чеченской
приравняли вы русскую кровь?!
Я, наверное, плачу
на этих всерусских поминках,
жаль мне наших старух…
Но не жаль мне —
других матерей,
когда вдруг разрываются мины
под подошвами их сыновей.
Что сидят в роддомах,
бородатые рожи натужив
промеж белых коленок
онемевших беременных баб.
И безумный Шамиль,
напослед выходящий наружу,
на весь мир вырастает
в кавказский крутой баобаб…
Сразу в круг стар и млад —
под камланья шаманского вопли,
словно кровь нашу топчут, —
на ножонках кривых копотят.
А из «мирного дома»,
пока мы разводим тут сопли,
замочили еще пару русских ребят.
Миру-мир, праху-прах.
Молча смотрим на небо,
на черный пылающий крест.
Мы детей народим
и, даст Бог, восстановим Державу…
И простит нас свинья,
и Господь, вероятно, не съест.
И «Аллаху Акбару» —
слава…
Шестая рота