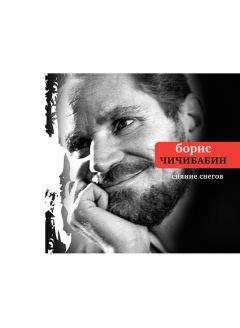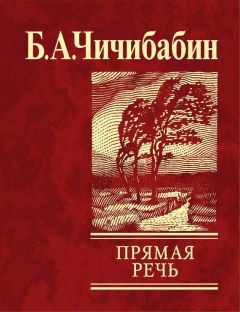Борис Чичибабин - Собрание стихотворений
1960–1967
АВТОБИОГРАФИЯ{36}
Поэты были
большие, лучшие.
Одних — убили,
других — замучили.
Их стих богатый,
во взорах молнии.
А я — бухгалтер,
чтоб вы запомнили.
В гурьбе горластых —
на бой, на исповедь, —
мой алый галстук
пылал неистово.
Побит, залатан,
шального норова,
служил солдатом,
работал здорово.
Тружусь послушно,
не лезу в графы я.
Тюрьма да служба —
вся биография.
И стало тошно —
стара история —
страдать за то, что
страды не стоило.
Когда томятся
рабы под стражею,
какой кто нации,
у них не спрашиваю.
Сам с той же свитой
в безбожном гулеве
брожу, от Свифта
сбежавший Гулливер.
Идут на убыль
перчинки юмора,
смеются губы,
а сердце умерло…
Пиша отчеты,
рифмуя впроголодь,
какого черта
читать вам проповедь?
Люблю веселых
да песни пестую,
типичный олух
царя небесного.
За счастье, люди!
Поднимем — сбудется.
За всех, кто любит!
За всех, кто трудится!
* * * Поэт — что малое дитя{37}.
Он верит женщинам и соснам,
и стих, написанный шутя,
как жизнь, священ и неосознан.
То громыхает, как пророк,
а то дурачится, как клоун,
бог весть, зачем и для кого он,
пойдет ли будущему впрок.
Как сон, от быта отрешен,
и кто прочтет и чем навеян?
У древней тайны вдохновенья
напрасно спрашивать резон.
Но перед тем как сесть за стол
и прежде чем стихам начаться,
я твердо ведаю, за что
меня не жалует начальство.
Я б не сложил и пары слов,
когда б судьбы мирской горнило
моих висков не опалило,
души моей не потрясло.
* * * До гроба страсти не избуду{38}.
В края чужие не поеду.
Я не был сроду и не буду,
каким пристало быть поэту.
Не в игрищах литературных,
не на пирах, не в дачных рощах —
мой дух возращивался в тюрьмах
этапных, следственных и прочих.
И все-таки я был поэтом.
Я был одно с народом русским.
Я с ним ютился по баракам,
леса валил, подсолнух лускал,
каналы рыл и правду брякал.
На брюхе ползал по-пластунски
солдатом части минометной.
И в мире не было простушки
в меня влюбиться мимолетно.
И все-таки я был поэтом.
Мне жизнь дарила жар и кашель,
а чаще сам я был не шелков,
когда давился пшенной кашей
или махал пустой кошелкой.
Поэты прославляли вольность,
а я с неволей не расстанусь,
а у меня вылазит волос
и пять зубов во рту осталось.
И все-таки я был поэтом,
и все-таки я есмь поэт.
Влюбленный в черные деревья
да в свет восторгов незаконных,
я не внушал к себе доверья
издателей и незнакомок.
Я был простой конторской крысой,
знакомой всем грехам и бедам,
водяру дул, с вождями грызся,
тишком за девочками бегал.
И все-таки я был поэтом,
сто тысяч раз я был поэтом,
я был взаправдашним поэтом
и подыхаю как поэт.
ВМЕСТО ВЕНКА{39}
(Б. Пастернаку)
Когда умирают
борцы и пророки,
нам свет оставляют
на долгие сроки.
Их вид переменится,
а духу не вытечь…
А вот куда денется
Борис Леонидович?
Здоровью в убыток,
себе не к добру —
жалелыцик убитых
и руганым друг.
По смыслу ребенок,
по сути актер,
он чтил погребенных.
А судьи-то кто?..
Куда ни поеду,
куда ни пойду, —
большому поэту
везде как в аду.
Положим, не я ли,
не вы ль заодно,
что он гениален,
узнали давно,
что, молод и весел,
еще не простыв,
как Бог, куролесил
в стихах непростых,
что тех ли находок,
того ли добра
достало б на годы,
лишь брать бы да брать.
Ни капли не выдохлись
и не таятся
ни сердце, ни синтаксис,
ни интонация.
Тяжелые торбы
таскают ослы.
А надо быть добрым,
а лучше бы — злым.
Не добр и не зол ты,
упрямый Тристан,
не встретил Изольды
и зорю проспал.
Тут, как ни усердствуй
и как ни жалей,
не вместишь то сердце
ни в чей мавзолей.
Бросаться спасать бы,
да кто тебе он-то?
Добро бы писатель,
а то — член Литфонда…
Политик убогий,
большой говорун,
пришелся эпохе
не ко двору.
Умом не богаты
и сердцем черны,
«так вот чепуха-то» —
решили чины.
Для крика, для вопля
лоснящейся рожи
и премия Нобеля —
повод хороший.
По голову полон
неспетых поэм,
он так и не понял,
за что и зачем.
Тонки его руки —
не раб, не солдат —
соленые струйки
сбегают со лба.
На окнах шторы,
а жизнь нелегка.
Ждать чуда? Да что вы!
Откуда и как?
Словесная удаль —
не козырь для псов…
Он взял и умер.
Вот и всё.
ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ЭРЕНБУРГЕ{40}
От нечестивых отмолчится,
а вопрошающих научит
Илья Григорьевич, мальчишка,
всему великому попутчик.
Ему, как пращуру, пращу бы —
и уши ветром просвистите.
Им век до веточки прощупан,
он — озорник и просветитель.
Чтоб не совела чайка-совесть,
к необычайному готовясь,
чтоб распознать ихтиозавра
в заре светающего завтра.
Седьмой десяток за плечами,
его и жгли и запрещали,
а он, седой, все так же молод —
и ничего ему не могут.
Ему сопутствуют, как видно,
едва лишь путь его начался,
любовь мазил и вундеркиндов
и подозрительность начальства.
Хоть век немало крови попил,
а у жасмина нежен стебель,
и струйки зыблются, и тепел
из трубки высыпанный пепел.
И мудрость хрупкая хранится,
еще не понятая всеми,
в тех разношерстных, чьи страницы
переворачивает время.
И чувство некое шестое
вбирает мира темный трепет.
Он знает более, чем стоит,
и проговариваться дрейфит.
Я все грехи его отрину
и не презрю их по-пустому
за то, что помнит он Марину
и верен свету золотому.
Таимой грустью воспаривши
в своем всезнанье одиноком,
легко ли помнить о Париже
у хмурого Кремля под боком?
Чего не вытерпит бумага!
Но клятвы юности исполнит
угомонившийся бродяга,
мечтатель, Соловей-разбойник.
Сперва поэт, потом прозаик,
неистов, мудр, великолепен,
он собирает и бросает,
с ним говорят Эйнштейн и Ленин.
Он помнит столько погребенных
и, озарен багряным полднем,
до барабанных перепонок
тревогой века переполнен.
Не знаю, верит ли он в Бога,
но я люблю такие лица —
они святы, как синагога.
Мы с ним смогли б договориться.
ПУШКИН — ОДИН{41}
А личина одна у добра и у лиха,
всё живое во грех влюблено, —
столько было всего у России великой,
что и помнить про то мудрено.
Счесть ли храмы святые, прохлады лесные,
Грусть и боль неотпетых гробов?
Только Пушкин один да один у России —
ее вера, надежда, любовь.
Она помнит его светолётную поступь
и влюбленность небесную глаз,
и, когда он вошел в ее землю и воздух,
в его облик она облеклась.
А и смуты на ней, и дела воровские,
и раздолье по ним воронью, —
только Пушкин один да один у России —
мера жизни в безмерном краю.
Он, как солнце над ней, несходим и нетленен,
и, какой бы буран ни подул,
мы берем его там и душою светлеем,
укрепляясь от пушкинских дум.
В наши сны, деревенские и городские,
пробираются мраки со дна, —
только Пушкин один да один у России,
как Россия на свете одна.
Так давайте доверимся пушкинским чарам,
сохраним человечности свет,
и да сбудутся в мире, как нам обещал он,
Божий образ и Божий завет.
Обернутся сказаньем обиды людские
на восходе всемирного дня, —
только Пушкин один да один у России,
как одна лишь душа у меня.
* * * Люди — радость моя{42},
вы, как неуходящая юность, —
полюбите меня,
потому что и сам я люблю вас.
Смелым словом звеня
в стихотворном свободном полете,
это вы из меня
о своем наболевшем орете.
Век нас мучил и мял,
только я на него не в обиде.
Полюбите меня,
пока жив я еще, полюбите!
За характер за мой
и за то, что тружусь вместе с вами.
Больше жизни самой
я люблю роковое призванье.
Не дешевый пижон,
в драгоценные рифмы разоткан,
был всего я лишен,
припадая к тюремным решеткам.
Но и там, но и там,
где зима мои кости ломала,
ваших бед маята
мою душу над злом поднимала.
Вечно видится мне,
влазит в сердце занозою острой:
в каждом светлом окне
меня ждут мои братья и сестры.
Не предам, не солгу,
ваши боли мой мозг торопили.
Пусть пока что в долгу —
полюбите меня, дорогие!
Я верну вам потом,
я до гроба вам буду помощник.
Сорок тысяч потов,
сорок тысяч бессонниц полночных.
Ну, зачем мне сто лет?
Больше жизни себя не раздашь ведь.
Стало сердце стареть,
стала грудь задыхаться и кашлять.
Не жалейте ж огня.
Протяните на дружбу ладоши.
Полюбите меня,
чтобы мне продержаться подольше.
СЕРЕДИНА ДВАДЦАТОГО ВЕКА{43}
Я за участь свою ни слезы не пролью —
все, что есть, за Россию прольются.
Я крамолу кую в том безмерном краю,
на горючей земле революций.
От небренных ее октябрей и маёв
проложилась багряная веха
через сердце твое, через сердце мое —
середина Двадцатого века.
Я рожден в том аду в двадцать третьем году
и не в книгах прочел про такое,
а живу на виду, позовете — приду:
наши судьбы в одном протоколе.
Нам досталась одна то ль беда, то ль вина —
лжи державной соблазн и опека,
зоревая волна, мировая война —
середина Двадцатого века.
Сколько зим, сколько лет мы за павшими вслед!
Ложь и зло разбиваются об век —
ни тирана портрет, ни урановый бред
не затмят человеческий облик.
Людям горе сулит лютый антисемит
и судьбу проклинает калека,
но горит и звенит моей жизни зенит —
середина Двадцатого века.
Я, как с судна на бал, — в яркий сумрак попал,
а и я в нем сумел пригодиться,
и мой дух не упал от разрух и опал,
от опричников и проходимцев.
Пусть приходит за мной несвобода с сумой —
я в обиду не дам человека:
у меня за спиной — синий шарик земной,
середина Двадцатого века.
ВЕЧНАЯ МУЗЫКА МИРА —
ЛЮБОВЬ{44}
Вечная музыка мира — любовь,
вечное чудо любви…
Льющимся пламенем в люльке лесов
славят весну соловьи.
Молодость-злюка, молю, замолчи!
Людям к лицу доброта.
Слышишь, нас кличут лесные ключи,
клены шумят у пруда.
Радостным утром с подругой удрав,
на золотом берегу
алгебру запахов учим у трав,
алую заповедь губ.
Жарко от шарфа шальной голове,
сбрось его с бронзовых плеч.
Светом и нежностью пьян соловей,
пчелам не жалить, не жечь.
Рядом с любимой, с ромашкой во рту,
всею судьбой прожитой
кланяюсь ласке, дарю доброту,
пренебрегаю враждой.
Доченька дождика, смейся и верь,
ветром в ладонях владей.
Сосны, как сестры, звенят в синеве.
Солнце вселилось в людей.
Плещутся желтые волны хлебов
в жаркие плечи твои…
Вечная музыка мира — любовь,
вечное чудо любви.
* * * Когда весь жар, весь холод был изведан{45},
и я не ждал, не помнил ничего,
лишь ты одна коснулась звонким светом
моих дорог и мрака моего.
В чужой огонь шагнула без опаски
и принесла мне пряные дары.
С тех пор иду за песнями запястий,
где все слова значимы и добры.
Моей пустыни холод соловьиный,
и вечный жар обветренных могил,
и небо пусть опустятся с повинной
к твоим ногам, прохладным и нагим.
Побудь еще раз в россыпи сирени,
чтоб темный луч упал на сарафан,
и чтоб глаза от радости сырели,
и шмель звенел, и хмель озоровал.
На свете нет весны неизносимой:
в палящий зной поляжет, порыжев,
умрут стихи, осыплются осины,
а мы с тобой навеки в барыше.
Кто, как не ты, тоску мою утешит,
когда, листву мешая и шумя,
щемящий ветер борозды расчешет
и затрещит роса, как чешуя?
Я не замерзну в холоде декабрьском
и не состарюсь в темном терему,
всем гулом сердца, всем моим дикарством
влюбленно верен свету твоему.
* * * Нет, ты мне не жена{46}.
Так звать тебя не надо.
Как старость, тяжела
семейная прохлада.
А мы до самых щек
теплы, как от пожара,
и стариться еще
нам не за что, пожалуй.
Еще не завелось
достатка и богатства,
и золото волос
пока что не погасло.
Нет, ты мне не жена.
Я слово слаще знаю.
Ты вся, как тишина, —
Телесная, лесная.
Наш дом открыт для всех,
лишь захоти остаться,
в нем не смолкает смех
и не скучает счастье.
О музыка и зной
тех слов, что ты мне шепчешь
пастушкою ночной
поступков сумасшедших!..
Нет, ты мне не жена,
бродяжка и бесенок,
ты вся отражена
в глазах моих бессонных.
Ты — пролесок лесной,
и медом дальних пахот,
дымящейся весной
твои ладони пахнут.
Коснись моей листвы,
кружись певучей пчелкой
и жизнь мою лишь ты
переправляй и черкай.
Я губ твоих желал,
как простоты и света.
Нет, ты мне не жена,
и песенка не спета.
* * * Во мне проснулось сердце эллина{47}.
Я вижу сосны, жаб, ежа
и радуюсь, что роща зелена
и что вода в пруду свежа.
Не называйте неудачником.
Я всем удачам предпочел
сбежать с дорожным чемоданчиком
в страну травы, в отчизну пчел.
Люблю мальчишек, закопавшихся
в песок на теплом берегу,
и — каюсь — каждую купальщицу
в нескромных взорах берегу.
Благословенны дни безделия
с подругой доброй средь дубрав,
когда мы оба, как бестелые,
лежим, весь бор в себя вобрав.
Мы ездили на хутор Коробов,
на кручи солнца, в край лесов.
Он весь звенел от шурких шорохов
и соловьиных голосов.
Мы ничего с тобой не нажили,
привыкли к всяческой беде.
Но эти чащи были нашими,
мы в них стояли, обалдев.
Уху варили, чушь пороли,
ловили с лодки щук-раззяв
и ночевали на пароме,
травы на бревна набросав.
О, если б кто в ладонях любящих
сумел до старости донесть
в кувшинках, в камышовых трубочках
до дна светящийся Донец!..
Плескалась рыба, бились хвостики.
Реки и леса красота,
казалось, вся в пахучем воздухе
с росой и светом разлита.
Скорей, любимая, приблизься.
Я этот мир тебе дарю.
Я в нем любил лесные листья
и славил зелень и зарю.
Счастливый, брошусь под деревья.
Да в их дыханье обрету
к земле высокое доверье,
гармонию и доброту.
* * * Желтые желуди{48},
зеленые заводи.
В соломенном золоте
солнце на западе.
Как вкусно запахло
скотным двором!
Сумка да палка
да мы вдвоем.
Свежо от купанья.
Костер. Перекур.
Да рокот комбайна
на том берегу.
Да капле уроненной
в листве шелестеть.
Моя ты родина —
лесостепь.
* * * А хорошо бы летом закатиться{49}
в лесную глушь — подальше от греха.
В сосновых рощах воздух золотистый.
Из пней прогнивших сыплется труха.
Пар от росы, как будто из дымарни.
Луга мокры. Болот не перебресть.
Куда ни глянь — цветы иван-да-марья,
резун-трава, ромашка и чабрец…
И ни тебе ни страсти, ни мороки.
Молчишь светло, и зло тебе в ползла.
В росе пасутся божии коровки,
одна из них на лоб тебе вползла.
Лежит пыльца на ягодах вкуснейших,
мошка в ноздрю забраться норовит,
треща и плача, прыгает кузнечик,
и суетятся мудро муравьи.
* * * По-разному тратится летняя радость{50}:
кому чего надо, кто чем увлечен.
А я вот, усталый, на травы усядусь,
в пахучие зори зароюсь лицом.
Меня закалила работа и служба,
я лиха немало хлебнул на веку,
и сладок мне отдых и весело слушать
мычанье скотины да квохтанье кур.
Вся в каплях, подруга пришла и присела,
огонь раздувает, готовит уху.
Не худо подумать про ужин, про сено.
«Ну что, хорошо?» Отвечает: «Угу».
Палил меня полдень, кололи колосья,
лишь под вечер стало свежей и сырей,
и в кои-то веки хоть раз довелося
пожить на досуге в колхозном селе.
Тут хаты пропахли полынью и хлебом.
А я хоть не пахарь, да свой промеж них.
Хлебаем сметану, толкуем про пленум,
и сам я по крови — казак и мужик.
Приходят девчата, поникнув плечами,
налипшую землю счищают с подошв.
Темнеет в дворах, наступает молчанье —
лишь лают собаки да плещется дождь…
Вот так и кочую, как ветры велели,
с котомкой и палкой брожу, полугол,
да слушаю речек сырые свирели
и гулкие дудки болотных лугов.
БЕЛЫЕ КУВШИНКИ{51}
Что за беда, что ты продрог и вымок?
Средь мошкары, лягушечьих ужимок
протри глаза и в прелести омой,
нет ничего прекраснее кувшинок,
плавучих, белых, блещущих кувшинок.
Они — как символ лирики самой.
Свежи, чисты, застенчиво-волшебны,
для всех, кто любит, чашами стоят.
А там, на дне, — не думали уже б мы, —
там смрадный мрак, пиявок черных яд.
На душном дне рождается краса их
для всех, а не для избранных натур.
Как ждет всю жизнь поэзию прозаик,
кувшинки ждут, вкушая темноту.
О, как горюют, царственные цацы,
как ужас им дыханье заволок,
в какой тоске сподыспода стучатся
стеблями рук в стеклянный потолок!
Из черноты, пузырчатой и вязкой,
из тьмы и тины, женственно-белы,
восходят ввысь над холодом и ряской.
И звезды пьют из белой пиалы.
ЯЛТА{52}
1
И свет, и море, и трава{53}
ярки по-ялтински.
Я глаз не в силах оторвать
от этой яркости.
Об этой Ялте с давних пор
немало наврано.
Она раскинулась у гор
и дышит лаврами.
Иным, на солнце разварясь,
в ней все наскучило.
А я приехал в первый раз
и то — по случаю.
Я с Севера, устав, как вол,
добра не чаючи,
пришел послушать рокот волн
и крики чаячьи.
Без модных платьев, без пижам
здесь встретить некого, —
я их симпатий избежал —
и в домик Чехова.
Смотрю сюда, смотрю туда,
задравши голову,
и говорю: «Вот это да!
Вот это здорово!»
А моря синь, а моря синь
ни с кем не дружится,
соленой пылью моросит,
валами рушится.
По вечерам в тепле луны
цикады тикают,
и все дворы оплетены
лозою дикою…
Клянусь быть сытости врагом,
но, тем не менее,
я здесь, крикун, смотрю кругом
в благоговении.
Я — ночь, я — берег, я — волна,
я — дух над шабашем.
Душа лишь вечности верна
в молчанье набожном.
Мои глаза мокрым-мокры,
они, смущенные,
не налюбуются на Крым,
на море Черное…
Не по карману нам пока,
в работу канувшим,
лежмя, пролеживать бока
на теплых камушках.
И я, набравшись добрых чувств
у древней осени,
на долгий срок не загощусь
в курортной просини.
Спускаюсь с кручи на бульвар,
у моря рыскаю
и рад, что у судьбы урвал
хоть осень крымскую.
2
Помню сердцем, вижу зримо{54},
даже в ссоре, даже в гневе,
как ты радовалась Крыму,
чайкам в море, солнцу в небе.
Как от всех дорог, от мытарств
ножки бедные разули
и послали их омыться
в нежной ялтинской лазури.
Как натруженные руки,
людям делавшие благо,
окунули по заслуге
в йодом пахнущую влагу.
В том краю, где краски ярки,
билась кровь, дышала грудка.
Это счастье наше в Ялте
было коротко и хрупко.
И опять, вернувшись к будням,
к бездне бед, к обиде стойкой,
ты зовешь меня беспутным,
я зову тебя жестокой.
Как ты русою русалкой
на камнях, притихши, грелась,
мне до слез сегодня жалко
понимать: за бегом — бренность…
Ну, а ты одна ль такая,
ну, а люди-полутени
чем-то лучше, привыкая
отдавать без получений?
Век их краток, жребий лют их,
скучен хмель, хмуры кануны, —
а ведь в этих самых людях
крылся замысел Коммуны…
Нам, пожалуй, не дождаться
в жизни трудной и дешевой
справедливого гражданства,
человечества большого…
Кабы мне за песен ворох
получить бы тысяч сорок,
я бы взял худых и хворых,
искупал бы в юга зорях.
Я бы их — от всех болячек,
от обид и голодовок —
под шатер лучей палящих,
к чаше моря голубого.
КРЫМСКИЕ ПРОГУЛКИ{55}
Колонизаторам — крышка!
Что языки чесать?
Перед землею крымской
совесть моя чиста.
Крупные виноградины…
Дует с вершин свежо.
Я никого не грабил.
Я ничего не жег.
Плевать я хотел на тебя, Ливадия,
и в памяти плебейской
не станет вырисовываться
дворцами с арабесками
Алупка воронцовская.
Дубовое вино я
тянул и помнил долго.
А более иное
мне памятно и дорого.
Волны мой след кропили,
плечи царапал лес.
Улочками кривыми
в горы дышал и лез.
Думал о Крыме: чей ты,
кровью чужой разбавленный?
Чьи у тебя мечети,
прозвища и развалины?
Проверить хотелось версийки
приехавшему с Руси:
чей виноград и персики
в этих краях росли?
Люди на пляж, я — с пляжа,
там, у лесов и скал,
«Где же татары?» — спрашивал,
все я татар искал.
Шел, где паслись отары,
желтую пыль топтал,
«Где ж вы, — кричал, — татары?»
Нет никаких татар.
А жили же вот тут они
с оскоминой о Мекке.
Цвели деревья тутовые,
и козочки мекали.
Не русская Ривьера,
а древняя Орда
жила, в Аллаха верила,
лепила города.
Кому-то, знать, мешая
зарей во всю щеку,
была сестра меньшая
Казани и Баку.
Конюхи и кулинары,
радуясь синеве,
песнями пеленали
дочек и сыновей.
Их нищета назойливо
наши глаза мозолила.
Был и очаг, и зелень,
и для ночлега кров…
Слезы глаза разъели им,
выстыла в жилах кровь.
Это не при Иване,
это не при Петре:
сами небось припевали:
«Нет никого мудрей».
Стало их горе солоно.
Брали их целыми селами,
сколько в вагон поместится.
Шел эшелон по месяцу.
Девочки там зачахли,
ни очага, ни сакли.
Родина оптом, так сказать,
отнята и подарена, —
и на земле татарской
ни одного татарина.
Живы, поди, не все они:
мало ль у смерти жатв?
Где-то на сивом Севере
косточки их лежат.
Кто помирай, кто вешайся,
кто с камнем на конвой, —
в музеях краеведческих
не вспомнят никого.
Сидит начальство важное:
«Дай, — думает, — повру-ка».
Вся жизнь брехнею связана,
как круговой порукой.
Теперь, хоть и обмолвитесь,
хоть правду кто и вымолви, —
чему поверит молодость?
Все верные повымерли.
Чепухи не порите-ка.
Мы ведь все одноглавые.
У меня — не политика.
У меня — этнография.
На ладони прохукав,
спотыкаясь, где шел,
это в здешних прогулках
я такое нашел.
Мы все привыкли к страшному,
на сковородках жариться.
У нас не надо спрашивать
ни доброты, ни жалости.
Умершим — не подняться,
не добудиться ýмерших…
но чтоб целую нацию —
это ж надо додуматься…
А монументы Сталина,
что гнул под ними спину ты,
как стали раз поставлены,
так и стоят нескинуты.
А новые крадутся,
честь растеряв,
к власти и к радости
через тела.
А вражьи уши радуя,
чтоб было что писать,
врет без запинки радио,
тщательно врет печать.
Когда ж ты родишься,
в огне трепеща,
новый Радищев —
гнев и печаль?
ЧЕРНОЕ МОРЕ{56}
Лишь закрою глаза —
и, как челн, меня море качает,
и садится на губы
нагая и теплая соль.
Не отцовством объят,
а от солнца я пьян и от чаек.
О, как часто мне снится
соленый и плещущий сон!
Дразнит прозу мою,
брызжет в раны веселый обидчик,
чья за мутью и зеленью
так изумительна синь.
То ли хлопья летят,
то ли птицы хлопочут о пище, —
то порхают барашки,
которых вовек не сносить.
Ну о чем бормотать?
Ну какого рожна кипятиться?
Я горю на огне.
Я — роса. Я ничем не гнетусь.
Я лежу на рядне.
Породниться бы нам, кипарисы!
Солнце плавит плоды
и колышет в ладонях медуз.
Разверзаются недра,
что вечно свежи и не дряблы.
Ходят нежные негры.
Здесь камень до ночи нагрет.
Пахнет йодом и рыбой.
И ёкает сердце над рябью,
где хохочущий повар
готовит чертям винегрет.
Отоспимся потом.
До потемок позябнем от зыби.
По ночам оно дышит,
как скинувший бурку джигит.
Море хлюпает в мол.
Море мокрые камешки сыплет.
Им никто не насытится.
Море и мертвых живит.
И смывает всю муть.
И смеется светло и ломяще.
И прозрачно слоится.
А может и скалы молоть.
И возьму я с собой
в свой последний отъезд из Ламанчи
вместо хлеба и книги
лохматой лазури ломоть.
ГОМЕР{57}
Дело сводилось к осени.
Жар никого не радовал.
Пахло сырами козьими,
луком и виноградом.
Пахло горячей пазухой
ветреной молодайки.
Пахарю пахло засухой.
В море кричали чайки.
Рощи стояли выжжены.
Воздух был жгуч и душен.
Редкий дымок из хижины
напоминал про ужин.
В тонких колосьев лепете,
в шуме деревьев пряных
передвигался слепенький
в сером хитоне странник.
Старенький, еле дышучи,
хату свою покинув,
шел прародитель тысячи
уитманов и акынов.
Тут и случись неладное.
Вдруг запершило в горле,
скрючило — и сандалии
ноги ему растерли.
Сел, прислонившись к дереву,
губы тоской зашиты,
немощный, сирый, — где ему
в мире искать защиты?
Родина вся как нищая,
мучалась и говела,
только и было нынче ей
дела что до Гомера.
Он и на то не сердится,
зная свой меч и заступ,
может, всего лишь семьдесят,
может, уже и за сто.
Помнит ли кто, как с детства он
был в состязаниях первый,
как он дышал и действовал,
а не слагал напевы?
Лишь потерявши зрение,
взявшись больным за лиру,
смел он стихами зрелыми
век свой поведать миру.
Трогая лиру старую
пальцами рук усталых,
пели до сна уста его
для молодых и старых.
Рады или не рады,
гостя впустив под вечер,
спать его виноградари
клали в сарай овечий.
Там этот старый сказочник
тешился миской супа.
Свет его мыслей гаснущих
бился темно и скупо.
Рано вставал — и заново,
бос и от пота солон,
шел до конца до самого
к новым краям и селам.
Щеки, что были смуглыми,
стали от бурь рябыми.
Слушали слуги с мулами,
воины и рабыни.
Были слова не шелковы
для городского слуха,
не соловьями щелкали,
а рокотали глухо.
В них — не обиды личные,
не золотая шалость, —
целой земли величие
ширилось и вмещалось.
…Ну так обиды побоку!
Духом воспрял художник.
Враз набежало облако
и запузырил дождик.
ЭТОТ МАРТ{58}
Разнообразны и вкусны
повествования весны.
Она как будто и близка,
а снегу сроду столько не было.
Иду по марту, как по небу,
проваливаясь в облака.
Еще морочат нас морозы,
но даль хрустально-голуба,
и, как от первой папиросы,
кружится дура-голова.
В моих глазах — мельканье марли.
Ну что ж, метелица, бинтуй.
Мы заблудились в этом марте.
Не угодить бы нам в беду.
Я сто ночей не отдыхаю.
Я слаще нежности не знал.
Во сне теснит мое дыханье
мокроволосая весна.
В ее святой и светлой замяти,
в капели поздней и седой
живу с открытыми глазами,
как мне повелено судьбой.
Сосулинки залепетали,
попались, звонкие, впросак,
и голубыми лебедями
сугробы плещутся в ручьях.
Я никуда отсель не съеду.
Душа до старости верна
хмельному таянью и свету,
твоей волшебности, весна.
Знать, для того и Север был,
и одиночество, и ливни,
чтобы в тот март тебя внесли мне
пушистой веточкой вербы.
Ну что мне выдумать? Ну чем мне
шаги веселые вернуть?
Не исчезай, мое мученье,
еще хоть капельку побудь.
Мир полон обликом твоим.
Он — налегке. Он с кручи съехал.
Он пахнет солнышком и снегом,
а в сердце буйство затаил.
* * * На мой порог зима пришла{59},
в окошко потное подула.
Я стыну зябко и сутуло,
грущу — и грусть моя грешна.
И то ли счастье, то ли сон
на мой порог, как снег, упали,
и пахнет милыми губами
мое горящее лицо.
Я жарюсь в чертовых печах.
(Как раз за лириков взялись там!)
Я нищетой до дыр залистан.
О, не читай меня, печаль.
Ты ж, юность, смейся и шали,
с кем хочешь будь, что хочешь делай.
Метелью праздничной и белой
во мне шумят твои шаги.
Душе и сладко, и темно,
ей не уйти и не остаться, —
и трубы трепетные счастья
по-птичьи плачут надо мной.
* * * Все деревья, все звезды мне с детства тебя обещали{60}.
Я их сам не узнал. Я не думал, что это про то.
Полуночница, умница, черная пчелка печали,
не сердись на меня. Посмотри на меня с добротой.
Как чудесно и жутко стать сразу такими родными!
Если только захочешь, всю душу тебе отворю.
Я твержу как пароль каждым звуком хмелящее имя,
я тревожной порой опираюсь на нежность твою.
Не цветными коврами твой путь устилала усталость,
окаянную голову северный ветер сечет.
Я не встречусь с тобой. Я с тобой никогда не расстанусь.
Отдохни в моем сердце, покуда стучится еще.
Задержись хоть на миг — ты приходишь с таким опозданьем.
Пусть до смертного часа осветит слова и труды
каждый жест твоих рук, обожженных моим обожаньем.
Чудо жизни моей, я в долгу у твоей доброты.
* * * Зову тебя, не размыкая губ{61}:
— Ау, Лаура!..
Куда ни скажешь, в пекло и в тайгу
пойду понуро.
Мне свет твой снится в дымке снеговой,
текуч и четок.
Я никогда, нигде и никого
не звал еще так.
Давным-давно, веселый и земной,
я верил в чудо,
но разминулось милое со мной.
Мне очень худо.
И не страшна морская круговерть,
не дорог берег.
Не на крутых камнях я встречу смерть,
а в добрых дебрях.
Исполню все, чего захочешь ты,
правдив и целен,
хоть Наши судьбы розны и чужды,
как юг и север.
Прими ж привет от бывшего шута
и балагура.
И пусть звучит у времени в ушах:
— Ау, Лаура!..
ОДА{62}
Так-сяк, и трезво, и хмельно,
в кругу друзей сквозь жар и трепет,
на службе, если дело терпит,
в кафе, в троллейбусе, в кино,
пока душа не обреклась
ночному холоду и лени,
смотрю на женские колени,
не отводя упрямых глаз.
Земному воздуху верны,
округлы, розовы, хрустальны,
соблазна плод и парус тайны, —
пред ними нет моей вины.
Как на заморскую зарю —
не веря в то, что это худо, —
на жизни чувственное чудо
с мороза зимнего смотрю.
Сумы дорожные свалив,
как мы смеемся, что мы шепчем,
когда в колени ждущих женщин
роняем головы свои.
Весь шар земной, весь род людской,
шута и гения — вначале
колени матери качали
с надеждой, верой и тоской.
Природа женщины сама —
стыдливость, жертвенность и шалость —
в них упоительно смешалась,
сводя художников с ума.
Спасибо видящим очам!
Я в греховодниках не значусь,
но счастье мне дарила зрячесть,
и я о том не умолчал.
Не представляю слаще лон
и, как на чудо Божье, пялюсь,
как соком плод, как ветром парус,
они наполнены теплом.
Досталось мне и стуж, и гроз,
но все сумел перетолочь их,
когда, голея сквозь чулочек,
лучило нежное зажглось.
Пусть хоть сейчас приходит смерть,
приму любое наказанье,
а если выколют глаза мне,
я стану звездами смотреть.
Они мне рай, они мне Русь,
волчонком добрым льну и лащусь,
уж сорок лет на них таращусь,
а все никак не насмотрюсь.
ПАСТЕРНАКУ{63}
Твой лоб, как у статуи, бел,
и взорваны брови.
Я весь помещаюсь в тебе,
как Врубель в Рублеве.
И сетую, слез не тая,
охаянным эхом,
и плачу, как мальчик, что я
к тебе не приехал.
И плачу, как мальчик, навзрыд
о зримой утрате,
что ты, у трех сосен зарыт,
не тронешь тетради.
Ни в тот и ни в этот приход
мудрец и ребенок
уже никогда не прочтет
моих обреченных…
А ты устремляешься вдаль
и смотришь на ивы,
как девушка и как вода
любим и наивен.
И меришь, и вяжешь навек
веселым обетом:
— Не может быть злой человек
хорошим поэтом…
Я стих твой пешком исходил,
ни капли не косвен,
храня фотоснимок один,
где ты с Маяковским,
где вдоволь у вас про запас
тревог и попоек.
Смотрю поминутно на вас,
люблю вас обоих.
О, скажет ли кто, отчего
случается часто:
чей дух от рожденья червон,
тех участь несчастна?
Ужели проныра и дуб
эпохе угоден,
а мы у друзей на виду
из жизни уходим.
Уходим о зимней поре,
не кончив похода…
Какая пора на дворе,
какая погода!..
Обстала, свистя и слепя,
стеклянная слякоть.
Как холодно нам без тебя
смеяться и плакать.
ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ{64}