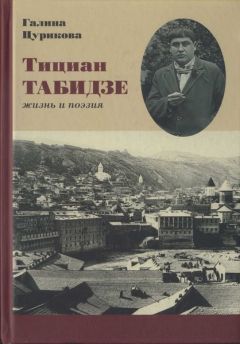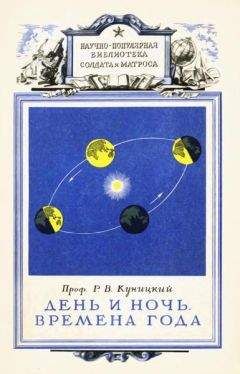Галина Цурикова - Тициан Табидзе: жизнь и поэзия
Если в первых мало самостоятельных стихотворных опытах Табидзе прозаический дословный пересказ полнее сохранял внутренний смысл и душу оригинала, то в новых его стихах подстрочник бессилен, он — лишь намек на некое поэтическое содержание, — в нем пропадает главное: вкус живого, звучащего слова. Поневоле вспоминаешь слова русского философа и теоретика раннего символизма Вл. Соловьева о том, что «в истинно лирическом стихотворении нет вовсе содержания, отдельного от формы… Стихотворение, которого содержание может быть толково и связно рассказано своими словами в прозе, или не принадлежит к чистой лирике, или никуда не годится» («О лирике»).
Пересказ — вялая тень лирического сюжета: «Если спросите меня, чего я хочу, ожидание чего меня убивает? Сам не знаю… Прошлое умерло, а в будущее открывается дверь… Душа моя умерла серым утром… Ушедшее время не вернуть, не затрепещет больше душа, ожидая возлюбленную…».
Стихи — прощание с прошлым, тревожное ожидание будущего.
Интонация оригинала несколько иная, чем в переводе Юрия Ряшенцева, — она интимнее, в ней меньше рисовки, несмотря на некоторую велеречивость.
…Мелодичность, текучесть фразы, подвижность образа, смятенность чувства, его неопределенность; и несочетаемость представлений, и неожиданность поворотов мысли. Почти болезненная обостренность мироощущения, и при этом — ни преувеличений, ни выспренности. Психологическая достоверность: напряженное душевное состояние человека в момент глубокого и скрытого внутреннего перелома.
Трагический колорит…
То же — на примере другого стихотворения: «Принц Магог» (1915), близкого по характеру, — те же свойства представлены в нем еще более интенсивно. Перевод Ю. Ряшенцева не передает, может быть, в полной мере гибкость словесного построения, частично утрачивает звучность аллитераций, но зато характерную сложносплетенность лирического сюжета, образную фактуру стиха воспроизводит с большой степенью поэтической точности, не теряя при этом художественной выразительности оригинала:
Ноябрьский бес приходил с бокалом вина
И подергивал челюстью, коротенькой и смешной,
И потягивался, и поглядывал на меня,
И спрашивал: «Ты ведь пойдешь со мной?..»
Куда мы шли… Мы не шли — метались во мгле
Жеребенком напуганным. За нами на полном скаку
Тишина летела — темный всадник на высоком седле, —
Тишина летела и к груди прижимала тоску.
Казались седые вершины далеких скал
Сломанными крыльями усталого божества.
Небо ли умерло или земля, кто по кому горевал —
Горьким и медленным черным снегом покрывалась трава.
Стонала сова. Нетопырь ей вторил вдали.
Шакал глядел с амбара у схлеста дорог.
И табуном, словно туча, кентавры шли
По черной земле, где властвовал принц Магог.
Стихотворение зиждется на субъективном, «внутреннем» видении, конкретном и зыбком одновременно. Смутность пейзажного образа психологически насыщена и закреплена в словесной структуре, оценить которую в переводе почти невозможно, потому что немалую роль здесь играют стилевые оттенки, не передаваемые по-русски: разнохарактерные и просто разноязыкие элементы, поэтические мотивы, возникшие в различной мифологической, литературной и бытовой среде — здесь сплавленные воедино.
«Ноябрьский бес» — народно-сказочный имеретинский «чинка» (болотный чертик): согласно поверью, явление чинок на землю бывает между 15 октября и 6 ноября, их появление сопровождают дожди: маленький длинноволосый чинка обладает сказочной силой — вздымает в воздух дома, — это несущая, безудержная стихия осени.
Рядом — библейский офранцуженный «принц Магог», излюбленные символистами античные полу-люди, полу-кони «кентавры», — они включены в грузинскую литературную образно-речевую фактуру, воссоздающую пластически зримый, характерный пейзаж: ночные долины Кавказа, горы — седые, ночью падающий — кажется черным — снег… Душа — вспугнутый жеребенок. Мчащаяся следом — в седле — тишина:
Тишина на коне за нами мчалась,
Тишина к сердцу прижимала тоску…
Горечь шла черным снегом.
Сове вторила летучая мышь,
И на амбаре присел шакал…
Что было реальной основой, первопричиной тех драматических переживаний? Каких?.. Сам вопрос этот кажется странным и неуместным. Сквозь поэтический прием проглядывает некая жизненная реальность, но разве в этом действительный смысл стиха? Здесь прием, поэтический образ, некая лирическая структура — цель, а не средство; им не надо смыслового оправдания. Их оправдание — целостность эмоционального впечатления, индивидуальность взгляда на мир, своеобразие словесного воплощения…
ХАЛДЕЙСКИЕ ГОРОДА
Профиль Уайльда. Инфанту невинную
В раме зеркала вижу в гостиной.
Эти плечи под пелериною
Я целую и не остыну.
Беспокойной рукой перелистывая
Дивной лирики том невеликий,
Зажигаюсь игрой аметистовой,
Точно перстень огнем сердолика.
Кто я? Денди в восточном халате.
Я в Багдаде в расстегнутом платье
Перечитываю Малларме.
Будь что будет, но, жизнь молодая,
Я объезжу тебя и взнуздаю
И не дам потеряться во тьме.
Спасибо великой России, она дала мне постижение — умение заглянуть в тайники души человеческой. Это сделал Достоевский. Она, Русь, приучила меня смотреть на жизнь изнутри, глядеть на нее сквозь призму своей души: это сделал Врубель. Она научила меня слышать в груди моей безысходные рыдания — это сделал Скрябин. Спасибо ей, моей второй родине, спасибо чудесной России…
Константин МарджанишвилиВ 1913 году Табидзе стал студентом Московского Императорского университета. По конкурсу аттестатов он поступил на филологический факультет, на историческую секцию пятого философского отделения.
В Москве он прожил четыре года; в 1916 году ездил домой во время летних каникул.
В Москве было много студентов грузин. Табидзе еще застал там своего старого друга по кутаисской гимназии — поэта Валериана Гаприндашвили (друзья называли его Чичико); в 1914 году Гаприндашвили окончил Московский университет и вернулся в Кутаиси. Из кутаисских друзей вместе с Табидзе приехал и поступил на юридический факультет Серго Клдиашвили.
Годы студенчества и все с ними связанное Тициан потом с нежностью вспоминал.
«Студенчество — это такое время, — писал он, — когда не стесняются романтизма; и, как это ни тривиально звучит: есть вечное благородство — и в первой любви, и в первом восторге. Время, проведенное в университете, равно всей последующей жизни; нет такого отъявленного скептика, ни даже человека, рано попавшего в цепкие лапы мещанства, который не вспоминал бы всю жизнь этот первый восторг и эту романтическую непосредственность, которыми оправданы и „мистицизм голода“, и любовь, ведущая в аптеку, — как говорил Герцен. Раньше звание студента было столь же почетным, как звание поэта. Первый студент, оправдывающий это сравнение, — Гамлет: мы всегда видим печального датского принца с книгой в руках; Гамлет живет в трагедии первой любовью и дружбой. Не столь серьезен от рождения беспечный, до сих пор вызывающий наш восторг богемным темпераментом истого школяра поэт-разбойник Франсуа Вийон, — лучшие куски из его „Малого завещания“ могут вечно служить завещанием студенческой богемы Латинского квартала и Монмартра. Отнимите студенческие годы у Гёте и лицей у Пушкина: первый стал бы холодным доктринером Веймара, а второй навсегда лишился бы той радости, которая наполняет русскую поэзию. И есть трогательная аналогия в том, что, по свидетельству истории, сам Руставели был когда-то афинским студентом, и оттуда идет великий риторический пафос его поэмы…
Грузины моего поколения были несчастны тем, что у чужих ворот проводили молодость. Несмотря на патриотическую меланхолию, каждый из нас с большой нежностью вспоминает московскую Козиху[2]. Там похоронена наша первая жизнь.
Я вспоминаю день 12 января, когда русские студенты собирались на Страстном бульваре у памятника Пушкину, который сверкал в лучах заходящего солнца, как командор.
Товарищ! Верь, взойдет она,
Заря пленительного счастья…
Эти строки — из стихотворения, посвященного Чаадаеву, — заставляли гордостью биться сердца студентов. Мы, грузины, лишены были этой гордости, хоть именно грузины часто первыми встречали наступление конной полиции, разгонявшей демонстрации.