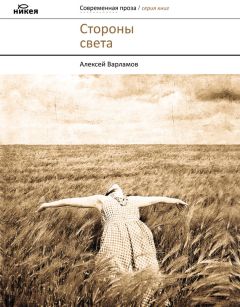Юрий Левитанский - Черно-белое кино (сборник)
Луковица
Страничка из дневника
Двадцать восьмого марта утром я вышел в кухню.
Чайник на газ поставил. Снег за окошком падал.
В шкафчике, на газете, луковица лежала.
Глупая толстая луковица. Барышня провинциальная.
Но две зеленые стрелки у ней на макушке были.
Две зеленые струйки фонтанчиком из нее били.
Снег за окошком падал, крупка в окно хлестала.
В шкафчике, на газете, луковица расцветала.
Луковица на газете. Зеленая, как кузнечик.
Этакий Чипполино. Луковый человечек.
Чай погуще завариваю. С луковкой разговариваю.
Что-то ей, видно, ведомо такое, что мне не ведомо.
Свое она что-то знает. Знает, что снег растает.
А снег все никак не тает. А луковица расцветает.
Человек, умеющий всё
О человек, умеющий всё,
имеющий две сильных руки!
Он пальцем сделал дырку в земле
и семечко в нее опустил.
И утром того самого дня
проклюнулся из дырки росток,
и был он так высок, словно стог,
а может быть, и больше того.
И вечером того самого дня
плод появился на месте том,
и был он так высок, словно дом,
а может быть, и больше того.
Огромный плод лежит на земле,
словно бы на большом столе.
Тихо качается над землей
огромный аэростат.
О человек, умеющий все,
имеющий две сильных руки!
Скорей мне тайну свою открой,
искусству своему научи!
А он отвечает мне: – Пустяки!
Тут вовсе тайны нет никакой —
я пальцем сделал дырку в земле
и семечко в нее опустил.
Арбуз
И о том судя, и об этом —
то о музыке, то о музе —
что сказали б вы вот об этом —
о зеленом простом арбузе?
Он лежит на бахче осенней
вне событий и потрясений.
Он не тронут еще ножами,
он как лысый толстяк в пижаме,
что на юге проводит отпуск.
Рядом бродят жена и отпрыск.
Спит толстяк в тишине дремотной
в полосатой пижаме модной…
Но когда наступает вечер —
он уже не арбуз. Он вечен.
Никакого арбуза нету.
Он похож сейчас на планету.
Муравьишка шагает робко
по остывшим ее вулканам.
Проползает божья коровка
по зеленым меридианам.
Так проходит, наверно, вечность.
И одна, и вторая вечность.
И берет его в руки кто-то,
и куда-то уносит кто-то.
Переполнен тоской глубокой,
он в тарелке лежит глубокой.
Подступают к нему с ножами.
В том числе – человек в пижаме.
Он сперва постучит по коже,
тронет хвостик – созрел, похоже.
У него своя точка зренья.
Тоже верная точка зренья.
Человечек
Едет полем человечек маленький —
маленький, как дождевая капелька.
Конь под ним вышагивает маленький,
а в руке поблескивает сабелька. —
Кто, – говорит, – супротив меня,
всех, – говорит, – саблей изрублю! —
Вот что говорит.
Я над ним склоняюсь осторожно,
поднимаю очень аккуратно,
опускаю на свою ладонь.
На моей ладони скачет конь,
человечек сабелькою машет,
в трубочку подзорную глядит,
отдает войскам распоряженья.
Поле предстоящего сраженья
под ногами многими гудит.
Вот уже и утро настает.
Скоро уже битва состоится.
Маленькое солнце Аустерлица
над долиной маленькой встает.
Человечек даль обозревает,
не сходя со своего коня…
Человечек не подозревает,
что он на ладони у меня.
Кораблик
Б. Окуджаве
Весною мир – красочный.
Весною он – сказочный.
В листве грачи возятся.
В ручьях сказки водятся.
А в сказки я – верую.
Я ветку взял вербную.
Спрошу в бюро адресном: —
А где живет Андерсен?
Девчонка в бюро адресном
по случаю дня вешнего
глядит на меня радостно,
мне отвечает вежливо:
– Идите по Светлой улице,
а после – по Теплой улице.
Там во дворе – лужица.
Над нею белье сушится.
Зяблик над ней кружится.
Кораблик по ней плавает.
Кораблик тот – маленький,
бумажный он, беленький.
В кораблике том маленький
сидит муравей, бедненький.
Садитесь и вы как следует.
Как раз он туда и следует.
И я поплыла б с охотою —
но я до пяти работаю…
И я на прощанье девочке
дарю половину веточки.
Потом я иду по адресу,
в кораблик сажусь маленький.
В гости плыву к Андерсену.
Со мной – муравей маленький.
Над нами идут лошади.
Как тучи они, черные.
Над нами вверху троллейбусы.
Как горы они, страшные.
А небо в ручьях – синее.
Течение в них – сильное.
Скалы торчат острые.
Радуги висят пестрые.
Кораблик бежит – маленький.
Бумажный он, беленький.
Держись, мой дружок маленький,
мой муравей бедненький!
Портрет
Черной краской на бумаге ватманской
мой портрет нарисовала девочка.
Смотрят на портрет мои знакомые,
говорят: – Ну просто замечательно!
А с портрета я смотрю растерянно.
У меня усы висят обиженно.
Руки мои черные раскинуты —
я стою, как ветряная мельница.
Ничего в портрете нет случайного.
Просто дети очень наблюдательны.
Что за простодушье и доверчивость
в этой милой их неискушенности!
Акварелью рисовала девочка все,
что она видела и слышала.
Короля нарисовала голого,
на редиску красную похожего.
Дурака нарисовала круглого
с головою маленькой, как пуговка.
Человека грустного и странного,
что руками машет, словно мельница.
Все восхищены рисунком девочки,
кистью ее зоркою и дерзкою,
признаком искусства настоящего —
этой непосредственностью детскою.
Зачем дураку море
Подарили дураку море.
Он потрогал его. Пощупал.
Обмакнул и лизнул палец.
Был соленым и горьким палец.
Тогда в море дурак плюнул.
Близко плюнул. Подальше плюнул.
Плевать в море всем интересно.
Дураку это даже лестно.
Но устал он. И скучно стало.
Сел дурак на песок устало.
Повернулся спиной к прибою.
Стал в лото играть. Сам с собою.
То выигрывает, то проигрывает.
На губной гармошке поигрывает.
Проиграет дурак море!..
А зачем дураку море?
С деревянным домом живу в ладу.
Собираю хворост и в печь кладу.
За водой иду и варю еду
из картошки да из крупы.
А потом я корни ищу в лесу.
А потом я корни домой несу,
чтобы там разобраться в них.
А старательный дятел – всё тук да тук.
А сосна надо мною – всё скрип да скрип.
И стоит сыроежка, печальный гриб,
дурачок на одной ноге…
Вот ушел я от суеты сует.
Ни о чем душа моя не болит.
Телефонный мой торопливый быт
где-то в прошлом – как неолит.
Там под слоем пыли молчат часы.
Там лежит в беспамятстве календарь.
Телефонная трубка на рычаге,
как удавленница, висит.
А в лесу стоит деревянный дом
и летит, как бабочка, желтый лист.
Сыроежка, недальновидный гриб,
хочет сам себя обмануть.
Снег этого года
Из подъезда – и сразу в метель.
Задохнуться от быстрого бега.
В лебединое озеро снега,
в суматошную ту канитель.
Только нынешний снег – не такой.
Он идет мимо нас виновато.
Он лежит, как больничная вата,
и блестит, как приемный покой.
Он смыкается, как западня.
Он спешит, как великий ученый,
тот помешанный, тот обреченный,
обрекающий вас и меня.
Человечество сходит с ума.
Этот снег – он идет, как расплата.
Оседают крупицы распада
на дворы, фонари и дома.
Осторожней, на улице снег!
Покупайте ушанки и шапки!
Надевайте ушанки и шапки,
чтоб не падал на волосы снег!
Торопитесь купить и надеть!
Только надо надвинуть поглубже.
И тогда уже можно поглубже
не глядеть, не глядеть, не глядеть.
И тогда уже можно глаза
у идущих навстречу не видеть.
Это старое средство – не видеть
у идущих навстречу глаза.
Совершай свое дело, зима!
Вот я тоже глаза прикрываю.
Я дурацкий колпак надеваю.
Человечество сходит с ума.
Дерево добрых
Из стихов о Ясной Поляне
…И сразу явственней и связанней
зеленый ЗИЛ и зелень озими.
О, сень яснополянских ясеней
в начале дня, в средине осени!
Не экскурсанты мы, а странники.
Которое уж поколение.
Деревья эти – тоже странники.
Они пришли на поклонение.
Их древний облик разрушается.
Летит листва в траву надгробную.
Но только им и разрешается
украсить ту траву надгробную.
Никто не рвет ее, не трогает.
Возле нее стоят в молчании.
Что нас, сегодняшних, так трогает
в том целомудренном молчании?
Сюда идут деревни ближние,
заезжий принц и пролетарии.
И все слова здесь уже лишние,
и все излишни комментарии.
Оконца в комнате под сводами
и в окнах рощица осенняя яснее,
чем экскурсоводами даваемые пояснения.
Что за богатство в листьях тех медных!
Дай мне копейку, дерево бедных!
Сделай богатым, щедро даруя, —
я не растрачу, все раздарю я.
Дай твоей меди, колокол медный!
Видишь, я маленький, видишь, я бедный.
Дай мне уменья, к ближним вниманья —
не всепрощенья, но пониманья.
Дай теплоты мне рук твоих теплых,
дерево бедных, дерево добрых!
Мое море